Посиневшая от холода, она сбросила свое коричневое платье, фланелевую нижнюю юбку, потом последовали шерстяные чулки и спенсер, затем шерстяные рейтузы; все предметы своего туалета она аккуратно складывала, прежде чем положить нижнее белье в ящик, а платье повесить на крючок в гардероб. Только выходное льняное коричневое платье висело, как полагается — плечики в Миссалонги считались роскошью. Но самым дефицитным удобством была здесь вода — резервуар вмещал всего 500 галлонов ; купались леди ежедневно, но в одной и той же воде, а нижнее белье полагалось менять раз в два дня.
Ночная рубашка Мисси из серой колючей фланели доходила ей до самой шеи и волочилась по полу, рукава были слишком длинные, так как раньше рубашка принадлежала Друсилле. Но зато постель была теплой. Когда Мисси исполнилось тридцать, ее мать объявила, что поскольку Мисси уже больше не молоденькая девочка, то посему может в холодную погоду согревать постель с помощью горячего кирпича. И хотя само по себе это было неплохо, однако с того дня Мисси оставила всякую надежду на то, что ей когда-либо удастся вырваться из заточения в Миссалонги и жить своей собственной жизнью.
Сон приходил быстро, потому что она вела физически активную, хотя и эмоционально бедную жизнь. Однако же те несколько минут между моментом, когда она забиралась в благословенное тепло постели, и отключением сознания были для Мисси единственным временем полной свободы, поэтому она всегда боролась со сном так долго, как только могла.
«Интересно, — могла думать она, — как же я выгляжу на самом деле?» В доме было лишь одно зеркало, в ванной комнате, но просто так стоять и глазеть на собственное отражение возбранялось. Поэтому впечатление Мисси о собственной наружности искажалось выражением вины оттого, что, возможно, она слишком долго глядится в зеркало. Она знала, конечно, что была довольно высокой, знала она и о своей излишней худобе, знала, что обладает прямыми черными волосами, что глаза у нее черно-карие, а нос немножко скошен набок — результат падения в детском возрасте. Знала, что левый уголок рта чуть ниже правого, но вот о том, что у нее очень хорошая улыбка, она не имела представления, потому что улыбалась редко, а также не ведала о том, что ее обычное серьезно-чопорное выражение лица — по-клоунски трагикомично. Жизнь научила ее считать себя очень домашним человеком, но в то же время что-то внутри нее сопротивлялось этой мысли, и ничто, никакие логические аргументы не могли заставить ее поверить в это окончательно. Потому-то каждую ночь она вновь и вновь спрашивала себя, как же она все-таки выглядит.
Или она начинала думать о том, как хорошо было бы завести котенка. Когда ей исполнилось семнадцать лет, дядя Персиваль, владелец кондитерско-табачной лавки, самый лучший из всех Хэрлингфордов, преподнес ей на день рождения щекастого черного котенка. Но мать ее немедленно отобрала котенка и нашла человека, согласившегося утопить его, убедительно объяснив Мисси, что они не могут себе позволить кормить еще один лишний рот, даже такой маленький; все это было проделано не без понимания чувств дочери и не без сожаления, но тем не менее это нужно было сделать. Мисси не протестовала. И не плакала, даже ночью в кровати. Наверное, этот котенок все же не был настолько реальным, чтобы заставить ее отчаянно горевать. Но ее руки, даже по прошествии стольких долгих и пустых лет, ее руки все-таки помнили прикосновение к пушистой шерстке маленького создания и его урчание, выражавшее удовольствие от того, что его держат на руках. Только ее руки сохранили эту память. Все остальное в ней уже притупилось.
Порой в мечтах ей позволялось гулять среди зарослей буша в долине, что лежала напротив Миссалонги, и всегда бывало так, что эти грезы наяву плавно переходили в сновидения, которые она никогда не запоминала. В сновидениях этих одежда не стесняла ее и никогда не промокала, если ей доводилось переходить какой-нибудь поток, не пачкалась, если она вдруг задевала за поросший мхом валун; и никогда ее платье не было этого чудовищного коричневого цвета. Над головой летали колибри, наполняя воздух нежным звоном, причудливо раскрашенные бабочки порхали среди крон гигантских древовидных папоротников, делавших небо похожим на атласную ткань, на которую набросили кружево. Последнее время она начала задумываться о смерти, которая все более представлялась ей желанным исходом. Смерть присутствовала повсюду и забирала молодых так же часто, как и стариков. Чахотка, припадки, круп, дифтерия, опухоли, пневмония, заражение крови, апоплексия, сердечные приступы, параличи. Почему она должна считать, что находится в большей безопасности, чем другие? Смерть вовсе не была такой уж нежеланной; так чувствуют все, кто не живет, а скорее существует.
Но этой ночью она продолжала бодрствовать и после того, как перед ней привычным калейдоскопом прошли разглядывание себя, котенок, прогулка по зарослям, смерть — и это несмотря на сильную усталость из-за возвращения домой галопом и резь в левом боку, причинявшую ей теперь страдания все чаще. Просто Мисси решила посвятить некоторое время этому огромному необузданному незнакомцу по имени Джон Смит, купившему ее долину, — по крайней мере, так говорила Юна. Ветер перемен задул в Байроне, появилась некая новая сила. Ей представлялось, что Юна была права насчет того, что он действительно намеревался поселиться в долине. Теперь уже больше не ее долине, а его, Джона Смита. Наполовину прикрыв глаза, она вызвала его мысленный образ — высокого, мощного телосложения, сильного мужчины, заросшего темно-рыжими волосами, с густыми бакенбардами и этими двумя удивительными белоснежными прядками в бороде. По лицу его, загорелому и обветренному, невозможно было точно судить о возрасте, но Мисси предполагала, что ему далеко за сорок. Глаза у него были цвета воды, протекающей среди опавших осенних листьев — чистые как хрусталь и одновременно янтарно-карие. Ах, какой удивительно привлекательный мужчина!
И когда она, чтобы завершить свои ночные странствия, отправилась в очередной раз на прогулку по зарослям буша, рядом с ней появился он, и они шли и шли рука об руку до тех пор, пока она не заснула.
Глава 3
Виной бедности, царившей в Миссалонги с такой неотступной жестокостью, был Сэр Уильям Первый. Он произвел на свет семерых сыновей и девять дочерей, большинство из которых благополучно выжили и сами дали потомство. Политика его в отношении наследников была такова, что все свои земные богатства он распределял лишь среди сыновей, дочерям же оставалось приданое, состоящее из дома и целых пяти акров земли. На первый взгляд, политика эта была не так уж плоха — она отпугивала охотников за богатыми невестами и в то же время обеспечивала девушкам статус землевладелиц и некоторую независимость. С большой охотой (так как это означало для них еще большие деньги) его сыновья продолжили эту политику, точно так же в свою очередь поступали и их сыновья. Пролетали десятилетия, и дома становились все менее удобными, да и качество постройки оставляло желать лучшего, а пять акров хорошей земли постепенно становились пятью акрами не-такой-уж-хорошей земли.
В результате через два поколения все сообщество Хэрлингфордов распалось на несколько лагерей: мужчины, все как один состоятельные; относительно богатые дамы, удачно вышедшие замуж, и группа женщин, которых либо обманом вытурили с собственной земли, либо заставили продать ее за смехотворную цену, либо таких, как Друсилла Хэрлингфорд Райт, старающихся сохранить свою недвижимость как средство существования.
В свое время она вышла замуж за некоего Юстиса Райта, чахоточного наследника крупной бухгалтерской фирмы из Сиднея, имевшего также капиталовложения в некоторые производственные проекты. Совершенно естественно, что, выходя замуж за Юстиса, Друсилла и не подозревала о его чахотке, как, впрочем, и он сам. Но спустя всего два года супруг ее отдал Богу душу, а его отец, переживший сына, посчитал, что разумнее будет оставить всю свою собственность второму сыну, чем передать какую-то ее часть вдове, имеющей наследницей лишь болезненную девочку. Вот так многообещающий брак, окончился во всех отношениях печально. Старик Райт исходил из того, что Друсилла имеет собственный дом и землю и происходит из весьма могущественного клана, который должен позаботиться о ней, пусть даже из чисто внешних, конъюнктурных соображений. Но не учел небольшой детали, а именно, что клану Хэрлингфордов было решительно наплевать на тех своих представителей, что принадлежали к женскому полу, были одинокими и не обладали властью.
Вот Друсилла и перебивалась с хлеба на квас. Она взяла к себе свою сестру Октавию, старую деву, которая продала дом и пять акров земли их брату Херберту, чтобы внести свою лепту в хозяйство Друсиллы. Тут-то и была загвоздка; продавать кому-нибудь со стороны считалось делом неслыханным, и Хэрлингфорды-мужчины всегда беззастенчиво этим пользовались. Ту оскорбительно малую сумму, что получила Октавия за свою собственность, Херберт сразу же от ее имени вложил в дело, но, как это всегда бывало с его финансовыми прожектами они и на этот раз оказались никчемными. Сначала, когда Октавия сделала первую робкую попытку узнать о судьбе своих денег, от нее просто отмахнулись, а потом последовали гнев и возмущение.
Понятное дело, что таким же невообразимым, как продажа своей собственности чужаку кем-либо из женщин Хэрлингфордовской фамилии, была бы и мысль идти работать на сторону, позоря тем самым клан. Работать женщина могла, но лишь в пределах собственной семьи. Таким образом, Друсилла, Октавия и Мисси, сидели дома, потому что абсолютное отсутствие капитала не позволяло им посвятить себя труду посредством открытия своего дела, а полное отсутствие каких-либо профессиональных знаний привело к тому, что собственная семья стала считать их абсолютно непригодными для работы.
Если Друсилла и вынашивала когда-нибудь планы о том, что Мисси удачно выйдет замуж и вытащит Миссалонги из беспросветной нужды, то еще до того, как Мисси исполнилось десять, стало ясно, что планы эти выстроены на песке; Мисси всегда была домашним ребенком и не располагала людей к общению. К тому времени, как ей стукнуло двадцать, ее мать и тетка уже успели смириться с перспективой выносить безжалостно стесненные обстоятельства вплоть до гробовой доски, каждая до своей. Со временем Мисси унаследует дом своей матери и пять акров земли, но расширить это хозяйство будет некому, так как Хэрлингфорды по женской линии практически никаких прав не имели.
Конечно, им удавалось сводить концы с концами. У них была корова породы джерси, дававшая удивительно жирное, богатое сливками молоко, а также роскошных телят; одну телку породы джерси хозяйки когда-то оставили, и та была просто великолепна. Кроме того, им принадлежало полдюжины овец, три дюжины рыжих род-айлендских кур, дюжина отборных уток и гусей, пара избалованных белых свиней, регулярно поросившихся и приносивших молочных поросят, лучших в округе, так как их не запирали в хлев, а позволяли свободно пастись, и так как, кроме отходов со стола Миссалонги и огорода, они поедали и отбросы из чайной Джулии. Огород, бывший вотчиной Мисси, давал овощи круглый год — Мисси была с растениями на короткой ноге. И еще у них был скромный сад — десяток яблонь различных сортов, персиковое дерево, вишня, слива, абрикосовое дерево и четыре груши. Цитрусовых у них не было — в Байроне слишком холодные зимы. За свои фрукты, масло и яйца они получали от Максвелла Хэрлингфорда гораздо меньше, чем могли бы выручить в любом другом месте, но продавать на сторону перекупщику, не являющемуся Хэрлингфордом, было делом неслыханным.
Еды у них всегда хватало; что делало их бедными, так это отсутствие денег. Не имея возможности получать жалованье и будучи бесстыдно обираемы теми, кто по справедливости должны были бы поддерживать их, они сильно зависели от наличных денег, означавших для них и одежду, и кухонную утварь, и лекарства, и новую крышу, и тысячу других вещей. Вечно под угрозой вынужденной продажи овцы, или теленка или нового помета поросят, они не могли себе позволить расслабиться в своем вечном состоянии финансовой бдительности. То, что эти две женщины, мать и тетка, действительно всем сердцем любили Мисси, выражалось только в одном: ей позволялось тратить на библиотеку деньги от продажи масла и яиц.
Чтобы чем-то заполнить пустоту дней, леди из Миссалонги постоянно что-то вязали, плели и шили и были рады подаркам в виде шерсти, ниток и полотна, которые получали на Рождество и в дни рождений. В свою очередь и они дарили кое-что из того, что производили с помощью своих иголок и крючков, но большая часть шла в кладовку.
То, что они с такой молчаливой безропотностью приняли законы и правила, навязанные им людьми, не имеющими никакого понятия об одиночестве и горечи благородной бедности, не свидетельствовало о том, что им недоставало силы духа или мужества. Просто они родились и жили во времена, когда еще не разразились великие войны и промышленная революция не принесла своих плодов, когда работа за плату и связанные с ней разнообразные удобства и удовольствия были предательством их представлений о жизни, семье и женственности.

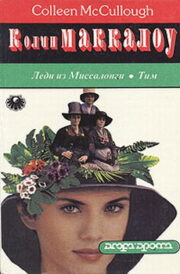
"Леди из Миссалонги" отзывы
Отзывы читателей о книге "Леди из Миссалонги". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Леди из Миссалонги" друзьям в соцсетях.