Татьяна ТРОНИНА
ЛЮБЛЮ, УБЬЮ, УМРУ…
Как сладко, все простив друг другу,
Без злого пламени в крови,
Глухою ночью слушать вьюгу —
Все ту же сказку о любви.
О нет, не к тем сгоревшим негам!
Но ласку грустную пролей,
Дохнувши розами над снегом
Моих последних февралей…
* * *
— Хотите, я на вас женюсь?
Его огромные, молочно-голубые, абсолютно непроницаемые глаза смотрели на меня, не мигая.
— Зачем? — вздохнула я.
— Затем, что любая женщина мечтает выйти замуж. Даже при нынешней эмансипации…
— К вашему сведению, Ковальчук, мне вчера сделали два подобных предложения. А уж что было неделю назад — я молчу… Целая очередь ко мне стояла.
— Елизавета Аркадьевна, я вас понимаю — проблема выбора. Это самая тяжелая проблема для женщины, когда приходится выбирать. Метаться между ценой и качеством, так сказать…
— Вы надеетесь, что я буду благосклонна, именно к вам?
— Да, — кивнул Ковальчук. — Он все несерьезно говорил, а я серьезно! Ей-богу, вы мне очень нравитесь. Я еще на первом курсе на вас глаз положил, — понизив голос, доверительно сообщил он. — Когда у вас другая прическа была.
— Польщена, весьма польщена…
— Да и разница в годах у нас весьма небольшая, да? — Он с любопытством приподнял брови.
Вопрос о возрасте мне не понравился, и я решила прекратить глупый разговор.
— Все вам расскажи… Хватит! Это ужасно — почему девицы во время сессии надевают мини, когда экзамен принимает мужчина, а молодые люди предлагают преподавателю, если она женского пола, руку и сердце?
— А чего вы хотите? — заерзал Ковальчук. — Можно и без штампа в паспорте…
Я хотела разозлиться на него, но не смогла — в конце июня в городе стояла настоящая тропическая жара.
— Я на вас докладную ректору напишу, — сказала я. — Что-то я не уверена в том, что вам нравлюсь, — у вас только пять посещений за целый семестр. Могли бы и почаще на меня любоваться. Я, вообще-то, хотела бы, чтобы мой супруг знал предмет, который я преподаю, — литературу конца девятнадцатого и начала двадцатого века. А вы футуристов перепутали с символистами, про реалистов данного периода ни слова не сказали, у Блока только поэму «Двенадцать» читали, Ахматову с Цветаевой явно не различаете…
Ковальчук моргнул — кажется, в первый раз.
— Я из-за вас в городе сижу, вместо того чтобы отправиться в заслуженный отпуск. Ладно, приходите двадцать седьмого. Если и в следующий раз не сможете ничего ответить, будем разбираться осенью, — закончила я. — И без этих глупых предложений… Запомните — вы не в моем вкусе.
— Ясно… — Он сграбастал свою зачетку и уныло побрел к выходу.
Я тоже собралась домой, но в институтском скверике, где по аллеям метался тополиный пух, столкнулась с Аглаей. Аглае было тридцать пять лет, и она преподавала в нашем Филологическом институте грамматику. Мы с ней почти дружили.
— Лизонька! — вскрикнула она. — Тебя Викентий Петрович искал! Впрочем, он, наверное, уже ушел…
Викентием Петровичем звали ректора нашего института.
У Аглаи нос и глаза были красными из-за пуха, она то и дело поправляла очки.
— Ты уходишь? — спросила я.
— Да. Идем вместе до остановки. Господи, Лиза, какая ты счастливая — сейчас придешь к себе домой, ляжешь на диван… А я, как жучка, сначала по магазинам буду бегать, потом стоять у плиты. Если еще Леонид Иванович не в духе придет… Слава богу, что Зинка у бабушки до конца лета! Ей двенадцать, гормоны играют, никого не желает слушать…
— Господи, Аглая, как я тебе завидую, — перебила я ее решительно, — у тебя муж, ребенок, ты не одна, тебя любят… А мне двадцать девять — не так уж намного ты меня и старше, — и ни одной родной души рядом. И напрочь отсутствуют всякие гормоны. Сейчас один балбес на экзамене нес страшную пургу, а я даже не могла на него разозлиться. Хотела, но не могла! Кстати, я ко всем своим прочим бедам еще и сирота. У меня нет ни отца, ни матери. Отца я вообще ни разу в жизни не видела, у меня от него только фамилия осталась. Так что еще вопрос, кто из нас счастливее!
Очки у Аглаи быстро сползли до кончика носа, и она задвинула пальцем их обратно, на переносицу. Она почувствовала угрызения совести.
— Ты что в отпуске будешь делать? — спросила я, чтобы окончательно растравить свои раны.
— Что? Поедем в Тверь, к родственникам Леонида Ивановича — у них там дивный сад.
Дивный сад… — вздохнула я. Мне в отпуске ничего не светило. Я точно знала, как я его проведу, — в городе, за компьютером, наедине со своей научной работой под названием «Образ ангела в символике русской литературы Серебряного века». Самым интересным моим времяпрепровождением будут походы в библиотеку для чтения монографий и подлинников… Впрочем, один плюс в этом есть — залы будут полупусты. Тишина, звон трамваев за окнами, тихий солнечный свет, вездесущие комочки июльского пуха, перекатывающиеся по вощеному паркету — от одного стеллажа с книгами до другого…
— Запомни, сад — не мой, — возразила Аглая, с любопытством глядя на меня — вероятно, по моему лицу читались мысли. — Никакой романтики не будет — ни поцелуев под яблоней, ни вечерних прогулок рука об руку, ни чтения Бориса Пастернака под луной… Леонид Иванович — страшный зануда, и, как ты знаешь, мы уже четырнадцать лет в браке. А вот у тебя мог бы быть собственный сад, если бы ты тогда…
— Ах, не вспоминай… — махнула я рукой.
— Нет, буду вспоминать! — сурово произнесла Аглая, поправляя непослушные очки. — Ты дурочка. Я, конечно, тоже дурочка, но ты еще более дурочка, чем я. Он был вполне обеспечен, он дарил тебе подарки, предлагал руку и сердце…
— Господи, кто только мне этого не предлагал…
— Нет, я о серьезных предложениях! Он любил тебя.
— Да, а потом заявил, что во мне нет огня.
— Ну, ты тоже ему много чего лестного наговорила… Я, конечно, не психоаналитик, но вы вполне могли бы помириться. Целых пять лет вы прожили вместе!
— Мне никто не нужен, — насупилась я.
Я и вижу, — сердито произнесла Аглая. — Во что ты превратилась? За один год ты сделала из себя такое страшилище, что ни один нормальный мужчина…
— Ты ничего не понимаешь! Это называется сменой имиджа. У тебя просто устарелый вкус, тебе нравятся барышни с конфетных коробок, кукольные личики… Ты сто лет ходишь с дурацким бантом и думаешь, что он выглядит мило и оригинально…
— Не трогай мой любимый бант! — вспыхнула Аглая.
В самом деле, я уже не могла представить ее без этого черного капронового банта, который огромным увядшим цветком вот уже много лет болтался у нее на затылке. Когда-то, когда Леонид Иванович был еще студентом строительного института, он сказал юной Аглаше, что ей очень идет бант и что в профиль она похожа на древнегреческую камею. Похоже, Аглая решила не снимать бант до самой смерти. Интересно, а спать она тоже ложится в нем?
— Ладно, не буду… Вон твой троллейбус. — Я принципиально не любила ссориться. «Рыбья кровь», — как-то сказали обо мне. Именно тот человек, в чьем саду я могла сейчас гулять…
— Ладно, до завтра… — Аглая тоже не любила выяснять отношения. — И не забудь зайти завтра с утра к Викентию!
Я помахала ей рукой, а сама спустилась в метро.
Черные стекла в поезде отразили мой светлый лик. Нет, Аглая ничего не понимает… Я нравилась себе такой — новой. «Если вы переживаете душевный кризис — смените прическу…» — рекомендовали дамские журналы. Я и сменила.
Раньше у меня были длинные, почти до пояса, волосы, крашенные в яркий тициановский цвет, или попросту рыжий, брови я немилосердно чернила, а для губ использовала оранжевую помаду. «Какая эффектная девушка», — говорили мне раньше. «Ты пытаешься хотя бы внешне сделать себя ярче» — это уже говорил мне он, и с осуждением, и с восхищением. «Преподаватель не должен слишком отличаться от своих студентов, — со сдержанным одобрением кивал Викентий, наш бог-громовержец. — Я демократичный руководитель… Цветите, детка!» — «Настоящий розан!» — вопила Аглая.
Яркие краски надоели. Пусть будет гармония и внешнее сравняется с внутренним. Я коротко подстриглась, перестала красить волосы — и скоро они приобрели мой естественный белесый оттенок. Никаких черных бровей — теперь, без карандаша, они были почти незаметны. Лишь немного светло-коричневой туши на ресницы, чтобы совсем не превратиться в бледный призрак. Губы — что-то бежевое, естественное… В общем, я стала самой собой, и это обратное превращение из бабочки в куколку мне даже нравилось…
Только почему-то целый год я была одна?.. Но разве мне это тоже не нравилось?
— Заходите, детка, — стальным голосом произнес Викентий. Он со всеми говорил стальным голосом — с тех пор, как стал ректором и ему пришлось разбираться с разгильдяями-студентами и интригами преподавателей, всяких там доцентов и профессоров. — Сегодня двадцать седьмое, как дела?
— Спасибо, Викентий Петрович, хорошо, — примерным голосом ответила я. — Все мои студенты сдали экзамен, даже Ковальчук поднапрягся и сегодня утром пришел вполне подготовленным…
— Вы слишком добрая, Елизавета Аркадьевна, — припечатал Викентий. — У Ковальчука три «хвоста» по другим предметам… Если к зиме не исправится — отчислю его за академическую неуспеваемость. Надоел он мне. Занимает чужое место в общежитии.
Солнце светило в кабинет, в его лучах клубилась золотая пыль. «Это все тополиный пух, — подумала я. — От него нельзя избавиться…»
— Я вот почему вас вызвал, Елизавета Аркадьевна… — вспомнил Викентий, нахмурив седые, цвета стали, брови. — Как там ваша работа продвигается?
Я была по возрасту самым младшим преподавателем, поэтому он считал, что меня надо опекать.
— Все в порядке, — кивнула я, — пока никаких сложностей. Сессия закончилась — буду ездить в библиотеку.
— Отдохните хотя бы недели две — в августе нам еще вступительные принимать. Очень большой конкурс в этом году. Народ понял, что юристов и бухгалтеров слишком много развелось, и кинулся изучать гуманитарные науки.
Из нашего института выходили журналисты, критики, сценаристы, филологи, учителя, было даже несколько известных писателей. Очень много выпускников работало на телевидении и радио. Слава иногда стоит дороже денег.
— Как вы собираетесь раскрывать тему?
— Ой, по ней столько материала… У каждого автора Серебряного века своя теодицея, трансцендентальность. Ну, и ангелов полно. Ангел как символ смерти, символ божественного миропорядка, символ любви…
— Я вас умоляю, только не делайте из своей работы беллетристику!
— Я не собираюсь… — испугалась я. Если сейчас Викентий примется за критику, то мне до вечера отсюда не выйти!
— Каких авторов предполагаете использовать? Я принялась перечислять.
— А Брюсова? — вдруг перебил он меня, сверкая хищным стальным взором.
— Его в первую очередь! Господи, браться за такую тему и забыть про «Огненного ангела» Брюсова… Вы обо мне так плохо думаете! Я, кстати, еще одного автора откопала — он почти неизвестен. Лирика проходная, ни разу с тех пор не переиздавалась, зато есть небольшой роман, называется «Бледный ангел». Копалась в архивах и вот… откопала. Правда, только отрывки. Вы его, конечно, не знаете, но это в некотором роде образец декадентского стиля…
— Как не знаю?! — Викентий даже подпрыгнул от возмущения на своем кресле, больше напоминающем трон. — Как это я не знаю…
А я и забыла, что у моего начальства пунктик — Викентий всегда и обо всем должен был знать. Даже малоизвестных писателей Серебряного века…
— Автор — Андрей Калугин, не так ли? — ехидно произнес он.
— Да… Вы просто гений, Викентий Петрович!
— Милочка, не льстите мне, я совершенно невосприимчив к лести. Если бы я верил всяким похвалам, то давно бы вылетел из своего кресла…
И пошел, и пошел…
— Кстати, об этом авторе я могу вам еще кое-что сообщить, чего вы сами не узнали бы, моя дорогая, даже если б сто лет копались в архивах…
— Викентий Петрович — вам звонят из мэрии! — без стука влетела в кабинет секретарша. — Я соединяю…
— Да-да, конечно… — Начальство сразу же потеряло ко мне всякий интерес. — Идите, Елизавета Аркадьевна, мы после все обсудим. Идите, мой бледный ангел…
Выходя от Викентия, я заглянула в большое зеркало, которое висело у него в предбаннике. «Бледная — это верно, — отметила я. — Но до ангела мне еще очень далеко».
Лето мое прошло так, как я и предполагала. Тихие библиотечные залы, запах книг, шепот скучающих библиотекарш за стойкой, скрип выдвигаемых и задвигаемых ящиков в отделе каталогов, ноющие в суставах пальцы — приходилось много записывать. Еще незримые беседы с Лосевым, Бердяевым, Федоровым, Владимиром Соловьевым… Еще стихи и проза — все то, что касалось ангелов. Ангел в русской литературе начала двадцатого века как символ смерти, как символ любви, творчества… Метафоры и прочая, и прочая…

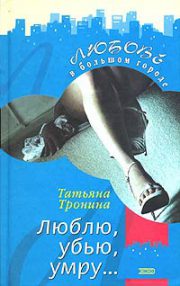
"Люблю, убью, умру…" отзывы
Отзывы читателей о книге "Люблю, убью, умру…". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Люблю, убью, умру…" друзьям в соцсетях.