«Пропал товарищ ни за что ни про что, — говорил Катышев. — А ведь в тот самый день, когда с ним помрачение случилось, я его видел. Во всем бабы виноваты… Вот те крест, никогда не женюсь! Такое у него лицо было странное… ясно, что человек не в себе. И актрисулю я тоже видел… Не понимаю, что он в ней нашел? Бледная, тени под глазами в пол лица. Оно, конечно, это модно сейчас, но совсем не в моем вкусе!»
Позже Катышев сошелся с Бурлюком и Крученых, писал футуристические стихи, в которых честному обывателю ни строчки нельзя было понять…
Первое время Андрей вел себя в клинике беспокойно, требовал для себя смерти, периодически отказывался от пищи, окружающую действительность совсем не хотел воспринимать. Но потом он словно успокоился, приступы буйства у него прошли. Правда, новый врач, который вел его теперь, в этом спокойствии ничего хорошего не видел и апатию эту называл «постепенным угасанием души.
В клинике работал один человек. Обязанности его касались хозяйственной части, и к медицине он не имел никакого отношения, но тем не менее он принимал живейшее участие в судьбе пациентов. Андрей заинтересовал его — и по доброте душевной, человек этот, звавшийся Ильей Лаврентьевичем, решил помочь ему.
Долго у Ильи Лаврентьевича ничего не получалось, и все его попытки занять Андрея живой человеческой беседой, которая столь часто является единственным утешением для страждущего, заканчивались ничем. Андрей отвергал людей. Замкнутый и хмурый, он часами мог сидеть в своей палате, забившись в угол, и никак не реагировал на окружающее.
Можно было подумать, что все в нем умерло, но на самом деле это было не так. Внутри Андрея кипела жизнь, но жизнь невидимая, эфемерная — одна картина из прошлого сменяла другую. Он питался своими воспоминаниями — из тех времен, когда Дуся была рядом с ним. Каждая подробность прошлого бытия была взвешена поминутно, осмотрена со всех сторон, положена на определенную полочку… Андрей словно пытался найти в прошлом ту ошибку, которая изменила плавный ход событий. Карасев? Нет, дело не только в Карасеве, было еще что-то, что навсегда разлучило их с Дусей…
— Послушайте, отчего бы вам не пойти в сад — там такая чудесная погода? — обратился к нему в очередной раз Илья Лаврентьевич в перерыве между своих хозяйственных дел.
— Нет, мерси… благодарю… — отрывисто произнес Андрей, отворачивая свое безразличное лицо.
В другой раз Илья Лаврентьевич попросил его о какой-то услуге, искусственно срежиссировав ситуацию, в которой ему действительно требовалась помощь. Хитрости Илье Лаврентьевичу было не занимать — судя по всему, он был изобретательным человеком, к тому же очень неплохо понимающим пациентов клиники, в которой служил.
И однажды ему удалось выманить Андрея в сад и даже разговорить его.
— Я знал вашего отца, — как-то обронил он.
Некий просвет мелькнул в глазах Андрея, до краев заполненных черной меланхолией.
— У меня был замечательный отец, — невнятно пробормотал он.
— Да-да! И ведь знаете, он спас меня!
Поскольку Андрей явно откликнулся на это сообщение, Илья Лаврентьевич продолжил:
— Я ведь тоже когда-то был доктором, недаром течением жизни прибило меня к сему медицинскому учреждению… Правда, специальность моя к психиатрии отношения не имела, но тем не менее… Я работал в земской больнице под Тверью. Был очень молодой и глупый, все мечтал облагодетельствовать человечество…
— А отец? — хриплым голосом спросил Андрей. — При чем тут мой отец?
— О, его роль в моей истории весьма существенная… Дело в том, что был у меня пациент, из крестьян, который страдал неизлечимой и мучительной болезнью. Мучения его были столь нестерпимы, а помочь ему не представлялось возможным, что я, признаюсь, решил взять на свою душу грех…
Какое-то движение мелькнуло на лице Андрея, и он сказал:
— Помню! Вы — Самойленко… Я был еще ребенком, когда отец взялся за ваше дело…
— Да-да, вы правильно угадали: ваш отец защищал меня, и в результате присяжные меня оправдали.
— Вот что, — с возрастающей решительностью произнес Андрей, который давно уже он не говорил так долго. — Помогите теперь вы мне… ради отца!
— Господи, да я с превеликим удовольствием… — Достаньте мне морфия. То количество, которое позволило бы мне уйти… от нее!
Андрей имел в виду Дусю, впрочем, Самойленко, который был в курсе его истории, сразу все понял.
— Вы и так находитесь далеко от нее… м-м-м, от Евдокии Кирилловны, если я не ошибаюсь…
— Нет, она рядом, — отрывисто произнес Андрей и машинально огляделся по сторонам.
В больничном саду царило мирное спокойствие. Была как раз середина лета, на клумбах цвели цветы, пели птицы на деревьях, пациенты бродили по аллеям, многие в сопровождении сестер милосердия. Кто-то долго и весело смеялся в дальнем конце сада…
— Что вы, голубчик, сюда не пускают посторонних!
— Вы не понимаете… — И, путаясь и сбиваясь, Андрей стал объяснять, что Дуся всегда рядом с ним. Потому что она ходит по той же земле, под тем же небом, они дышат одним воздухом. А это невыносимо — ощущать прелесть любимой девушки, недоступной и жестокой. — Знаете ли вы, что красота убивает? Ее, Душна то есть, красота убивает меня… Достаньте мне морфия!
— Здравствуйте, детки, — тихим голосом произнесла Нина Ивановна. — Как хорошо, что вы приехали…
— Мамочка, но не могли же мы допустить, чтобы ты встречала Новый год одна! — возмутился Саша.
Я заметила, что дома, у матери, он становится немного другим — чуточку инфантильнее, что ли, словно в этих стенах опять чувствует себя ребенком.
— Лиза, милая, как удивительно все получилось… — вздохнула Нина Ивановна с особым выражением, и я поняла, о чем она.
Да, когда я ехала к вам прошлым летом, то никак не ожидала, что встречу здесь свою судьбу, — философски кивнула я.
— Дождь был…— прошептала она, садясь за стол. — Ты помнишь?
— Не дождь, а самый настоящий ливень! — энергично воскликнул Саша. — Я весь до ниточки промок… Захожу в дом и встречаю в гостях у мамы удивительную девушку!
Я покраснела, но моя будущая свекровь, кажется, ничего не заметила.
— Если бы не моя научная работа, я никогда бы здесь не оказалась, — заключила я.
— Слава Серебряному веку! — Саша истово поцеловал меня, потом Нину Ивановну.
— Нет, это все дождь… — повторила она с таинственным, значительным видом. — Ты, Лиза, хотела уехать, но осталась — — из-за дождя.
Не могу сказать, что я особо разбираюсь в людях, но Нина Ивановна очень мне нравилась. По-моему, редко кто испытывает подобные чувства к будущей свекрови. В ней было тихое, бесстрастное спокойствие, и я была уверена, что никогда она не станет скандалить и плести интриги в нашей семье.
С первого взгляда она казалась очень старой — благодаря тому, что двигалась и говорила медленно, а голос ее едва ли превышал полушепот. Но потом я поняла, что возраст тут не имеет значения, просто у нее такая манера, такой характер — никогда и ни в чем не переступать границы полутонов.
Это я предложила встречать у нее праздники, и Саша радостно, даже как будто с облегчением, согласился. Он любил меня больше, чем мать, поэтому мне было немного совестно перед ней.
— Если тебя это не будет напрягать… — сказал он тогда.
— Господи, Саша, о чем ты? Нина Ивановна — сущий ангел…
Радовалась ли она тому, что у нее наконец-то появится невестка, или печалилась — неизвестно. Наверное, все-таки была довольна — по некоторым признакам я сделала вывод, что она против меня ничего не имеет. В высшей степени философичная женщина!
Мне нравился ее дом.
Он был старый, и внутри, над деревянными половицами, разливалось ровное тепло, незаметное и приятное. Обстановка была старой, но не бедной, а какой-то очень благородной. Вещи из прошлого, когда-то принадлежавшей предкам Нины Ивановны. Наверное, было здесь и что-то, что осталось после Андрея Калугина.
Старые венские стулья с плетеными сиденьями, круглый стол, покрытый длинной тяжелой скатертью с бахромой, красный абажур на лампе над ним, который после долгих лет презрительного забвения снова вошел в моду. На комоде, на кружевной салфетке, стояли фотографии в рамках, бюст Вольтера, темная иконка Божьей Матери в серебряном окладе, лекарства в склянках.
Я словно видела все это впервые, и чем дальше, тем сильнее дом мне нравился. Здесь жил Саша. Здесь все было пропитано прошлым, и, если напрячь воображение, можно было с легкостью представить, что сейчас на дворе какой-нибудь пятидесятый или шестидесятый год…
У Нины Ивановны было огромное количество банок, баночек и прочих сосудов, в которых хранились всевозможные варенья и соленья. Варенья припасено больше — Сашина мать была явной сладкоежкой, и мне это тоже казалось почему-то очень привлекательным.
И лишь новенький современный телевизор с внушительным экраном немного портил общее впечатление, словно напоминая о том, какой год сейчас на дворе. Но его, этого вестника третьего тысячелетия, «усмирял» мраморный пожелтевший слоник, стоявший сверху, посреди кружевной квадратной полянки, один угол которой чуть-чуть свешивался на экран.
Красный абажур бросал отсветы на все, но мне этот свет не казался тревожным вопреки распространенному мнению. Он был уютным и праздничным.
Золотой чай плескался в чашках с тонкими фарфоровыми стенками, потускневшие мельхиоровые ложечки лежали возле хрустальных розеток с вареньем, которое рубиново рдело в них…
Я совсем некстати вспомнила Дениса. Скорее всего, именно из-за этих рубиново-гранатовых красок, преломлявшихся в хрустале. Как бы вернуть ему чертов браслет, в то же время не связываясь с ним напрямую? Наилучшим вариантом было встретиться с Ромой Пеньковым и передать браслет через него.
Денису здесь бы точно не понравилось. «Мещанство… — презрительно сказал бы он. — Пусть эти слоники хоть тысячу раз входят в моду и выходят из нее, все равно — мещанство. А варенье, Лис!.. Отвратительное варенье в чудовищных количествах, которым запасаются скучные провинциалы! В нем же не осталось ничего полезного, одни углеводы…»
Я так хорошо изучила Дениса, что почти дословно могла угадать, как бы он охарактеризовал то место, в которое я попала. Денис был рядом, как я ни гнала его из мыслей. Призрачным контуром он сидел в небрежной позе на диванчике, покрытом тигровым покрывалом, положив ногу на ногу, и сквозь зубы отчитывал меня. «Лис, как ты можешь это терпеть… Посмотри вокруг — старье, которое давно пора выбросить на помойку, вместе с этими уродливыми мельхиоровыми ложками и скатертью с бахромой! А этот твой Саша… Он что, не состоянии преобразить свой отчий дом, купить матери новую обстановку?»
— Здесь так уютно… — пробормотала я, накладывая себе еще вишневого варенья.
— Тебе хорошо, да? — радостно сказал Саша, поцеловав мне руку. — Мамочка, ей у нас хорошо…
— Мне самой здесь очень нравится, — серьезно прошептала Нина Ивановна.
И снова я будто услышала голос Дениса: «Лис, ты посмотри — старухе сложно ухаживать за домом — он забит ненужным барахлом, которое приходится чистить, проветривать и протирать. Надо все выкинуть и купить новую мебель — удобную и функциональную, которая почти не требует ухода. А эти кружевные салфетки… Боже мой, Лис, я бы ни за что не зашел в дом, в котором есть такие салфетки!»
Не знаю — возможно, из чувства противоречия своему незримому оппоненту я осталась в доме Нины Ивановны до конца Рождества.
— Мы славно провели время здесь… — сказала я Саше по окончании рождественского вечера, когда мы собирались ложиться спать.
— Потому что мы вместе, — тут же откликнулся он. — Мы целую неделю не расстаемся.
Он сидел рядом на старой пружинистой кровати с шишечками и слегка подпрыгивал, отчего меня качало, словно на волнах. Я полулежала, опершись на руку, и смотрела на своего жениха. Саша улыбался весело и беззаботно.
— Саша, не тряси меня, а то у меня уже начинается что-то вроде морской болезни, — остановила его я. — Ты вот лучше скажи…
— Что? — живо переспросил он, тут же перестав дурачиться. Меня всегда поражало, как он откликается на любое мое слово. Это чрезмерное внимание, признаюсь, иногда даже пугало. «Не люби меня так сильно, — хотелось мне иногда сказать ему. — Будь немного спокойнее! Ты слишком открыт и беззащитен, когда вот так смотришь на меня…»
— Ты веришь в бога? — вдруг спросила я, уж сама не знаю почему. Наверное, причиной был сегодняшний праздник, который, кстати, мы и не отмечали особо.
— Верю, — легко кивнул он. — Ты хочешь венчаться, да? Я ничего не имею против… Правда, я сто лет не был в церкви!
— Нет-нет, я не к тому спросила… — пробормотала я, откинувшись назад. — Просто хотела узнать, согласен ли ты с тем, что вся наша жизнь подчинена незримым законам, по которым добро всегда вознаграждается, а зло неизменно бывает наказано?

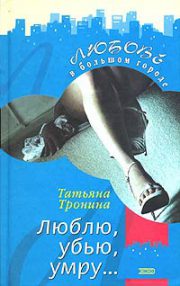
"Люблю, убью, умру…" отзывы
Отзывы читателей о книге "Люблю, убью, умру…". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Люблю, убью, умру…" друзьям в соцсетях.