— Мужчинам нельзя с непокрытой головой.
Майо непроизвольно потрогал макушку.
— Надень вот это, и не забудьте расписаться в журнале, — добавила сторожиха, развернулась и исчезла. Ее явление длилось меньше минуты, но мы стояли, пораженные.
Мы прошли в небольшую комнату, где на маленьком столике лежал журнал, корзина с головными уборами и шпильками для волос и чаша для пожертвований. На стенах были развешаны снимки деревьев, сфотографированных в разное время года, и напечатанные на машинке строки Альберто Виджевани[19]. Майо продекламировал: Они знают, мы знаем — невозможно вернуться в весну, в очарование новых цветов, новых листьев. Они знают, мы знаем, что сон без сновидений под безмолвным снегом или зеленым ковром неизбежно ожидает всех нас.
— Да уж, весело! — отозвалась Микела тихо. И добавила, показывая на журнал: — Что будем делать?
Записывать свои имена в журнал никак не входило в наши планы. А если нас засекут? И кто–то увидит, что мы курим?
В коридоре висело объявление: «Просим туристов, посещающих еврейское кладбище, вести себя достойно, как подобает святости места».
Мы, хоть и не имели опыта посещения кладбищ, и без этого объявления понимали, что курить косяк в таком месте — не слишком уважительно, но ведь мы не собирались осквернять могилы, наши намерения были, скорее, эстетического и духовного порядка: мы искали подходящую атмосферу, особую, а на кладбище она была именно такой.
Наши неблаговидные намерения лишь добавляли эмоции событию, которое мы хотели торжественно отметить, но не были самоцелью.
— Сначала сходим, потом напишем, — сказала я. — Подумаем.
Мы помогли Майо закрепить шпилькой ермолку и пошли дальше, в большой заброшенный парк. Сторожиха будто бы растворилась. Пройдя мимо небольшого мавзолея из белого мрамора, украшенного бронзовыми орлами, мы углубились в парк. Шли наугад, пораженные размерами кладбища, его стариной и запущенным видом. Дальше были величественные мраморные ворота с надписью на иврите и звездой Давида. За воротами открывался большой пустырь с гигантскими деревьями по периметру: дуб, тополь, бук, каштан. Этот заброшенный парк совсем не напоминал кладбище, пока мы не увидели торчащие из земли старые, потемневшие от времени, могильные камни. Многие были разбиты, а едва различимые буквы поросли мхом. Пройдя дальше, мы попали на территорию, которая казалась еще более древней. За старинными стенами кладбища виднелись хорошо знакомые нам земляные валы.
— Вот откуда приходит ночь, — заметил Майо.
— Спасибо, но мне без разницы, — ответила Микела.
Шли мы медленно, пытаясь прочесть надписи на старых камнях.
— И все же это кладбище лучше нашего, — вдруг сказала Микела. — Элегантнее, что ли: ни цветов, ни фотографий, одни имена.
— Хорошее место, — согласился Майо, — магическое. Я не против, если б меня здесь похоронили.
Мы с Микелой посмотрели на него, потом переглянулись и расхохотались.
— Лучше выбирай, где будем забивать косяк.
Майо огляделся по сторонам и исчез за кустами — искать укромный уголок. Мы с Микелой читали имена детей на относительно новых могильных камнях. Майо все не возвращался. Мы пробовали звать его вполголоса, он не отзывался.
Наконец Микела нашла его на небольшом пятачке, где деревья, кустарники и обломки могильных камней, казалось, сплелись навсегда. Он сидел, прислонившись спиной к крепкому стволу, за ухом у него торчала самокрутка.
— Я вас жду.
— Значит, будем курить здесь? — спросила Микела.
— Боишься проявить неуважение к мертвым? — пошутил Майо.
— Давайте посвятим им, — предложила я. — Первый косяк из травки, выращенной нашими руками. Наше пожертвование.
Майо насыпал марихуану, скрутил косяк и передал мне с легким поклоном. Зажег серебряной зажигалкой нашего отца.
Я сделала три длинные затяжки и передала косяк Микеле. Кладбище казалось заброшенным, пустынным, до нас доносилось лишь щебетание птиц. Сорока с черно–белым опереньем, парочка дроздов, малиновки. Микела тоже сделала три затяжки и передала косяк Майо. Трава была не слишком ароматной, может, мы плохо ее высушили.
Ритуал был завершен в полной тишине.
Когда мы встали, в ушах стучало. У меня кружилась голова. Мы пошли по узкой тропинке вдоль старой стены из красного кирпича, в которую были вставлены белые могильные плиты. Мы задержались перед одной — время, казалось, остановилось. Там, где надписи были не на иврите, мы читали имена и эпитафии и подсчитывали, сколько лет было умершим. Многие погибли в Первую мировую: дети, молодые вдовы, офицеры.
— Здесь покоится с миром Артуро Кавальери, ему было только тридцать шесть, когда внезапная смерть вырвала его из крепких объятий брата и добрых друзей, — прочитал Майо и, повернувшись ко мне, добавил: — Умереть в тридцать шесть лет — это прекрасно, не успеешь состариться.
Я сморщила нос и покачала головой, а Микела изобразила, будто душит Майо.
— Если уж тебе так хочется…
Мне показалось, что щебетание птиц стало невыносимым, почти оглушающим.
Микела, слабо улыбаясь, смотрела на нас и молчала.
На обратном пути мы не сказали друг другу ни слова и втайне надеялись, что сторож не выйдет. Настроение у нас было приподнятое, нам казалось, что все непременно заметят, что мы тут сделали. В вестибюле, по–прежнему пустынном, мы подошли к журналу, в котором нужно было расписаться, поставить дату, указать свой город и профессию. Поскольку нас не засекли, я написала свое настоящее имя, то же самое сделали Микела и Майо.
В графе «профессия» я написала «преподаватель», а Майо — «музыкант». Микела ничего не написала.
Мы вышли на улицу, прикрыв за собой калитку, и солнечный свет, отраженный от булыжной мостовой, ослепил нас. Загадочная красота и седая старина еврейского кладбища свели на нет пафос нашего ритуала — мы все это чувствовали, и только Майо сказал:
— Такое место и без косяка отлично действует. — И добавил: — Наверно, хорошо быть евреем.
Мы решили проводить Микелу, хотя наш дом был ближе. Микела сбегала на кухню и принесла шоколадное печенье. Ели мы, сидя на полу в ее комнате, потом улеглись на ковер и уставились в потолок. Время от времени кто–то говорил какую–нибудь ерунду и все хохотали. Весь вечер мы так и провалялись на ковре. Уже в дверях Майо поцеловал Микелу долгим поцелуем с языком. Обычно в таких случаях я отводила глаза, но сейчас смотрела, будто сцену из фильма.
Домой возвращались по бульвару, обсаженному липами. Перед нашим домом Майо остановился, ткнул в меня пальцем и сказал:
— Из крепких объятий брата и?..
— И добрых друзей! — тотчас ответила я.
— Молодец, — похвалил он, открывая дверь.
Звон тарелок возвещал, что мама накрывает стол к ужину. Из кухни тотчас раздалось ее мелодичное: «Ааль–маа–Маа–йоо».
Антония
Сегодня наконец–то я увижу Лео. Он написал, что приедет из Рима поездом в девятнадцать пятьдесят и сам доберется до гостиницы, но я хотела бы встретить его на вокзале.
Я очень его жду, но в то же время боюсь, чтобы его приезд не разрушил очарование этого города, к которому я стала относиться ревниво, будто к едва зародившейся любви. И как я жила раньше, ничего не ведая о нем!
Это совсем рядом с Болоньей, но словно другой мир, отличный от всех прочих мест, где я побывала. Он красив тихой, сдержанной, меланхоличной красотой. И в нем таится столько секретов, связанных с моей семьей! Еще недавно я ничего не знала о нем, теперь же мне кажется, что все сосредоточено вокруг его тихих улиц, вымощенных гладким булыжником.
Но вчера в центре внимания оказалась Болонья: заголовки первых страниц газет кричали, что самый ученый город Италии превращается в один из самых криминальных. Лео плевать на газеты, но сегодня утром его вызвали в Рим, в министерство. — У меня встреча с начальником полиции в одиннадцать. После обеда я сяду на поезд и приеду в Феррару к ужину, — так сказал он мне по телефону.
Что бы ни случилось, день у Лео подчинен ритму приема пищи. Сколько я его знаю, он никогда не пропускал ни завтрак, ни обед, ни ужин.
Я села в автобус на остановке напротив Театинской церкви в полвосьмого и за семь минут доехала до вокзала. Проспект, по которому мы ехали, за Феррарским замком становится безликой современной улицей, на которой нет ничего примечательного, разве что величественное здание фашистской эпохи, может, старая школа. Я вдруг подумала, что даже не знаю, где учились Альма и Майо. В лицее, но где именно?
Надо будет спросить у Микелы. После прогулки и обеда в трактире у городских стен мы больше не виделись, позвоню ей, когда уедет Лео. Пока не знаю, надолго ли он сможет задержаться. Я рассказала ему по телефону обо всем, что удалось выяснить, но умолчала об истории моих предков. Мне бы хотелось пойти вместе с Лео в мамин дом, познакомить его с Лией Кантони, показать мемориальную доску на виа Мадзини. Хорошо бы встретиться с Микелой и ее мужем — было бы интересно посмотреть на отца Изабеллы. А может, Лео захочет позвонить Луиджи: странно представить их вместе.
Вокзал — одноэтажное, длинное здание из красного кирпича, постройки пятидесятых годов прошлого века. Когда я приехала в Феррару, я не заметила его убожества, может, потому, что еще не знала, какую красоту увижу в городе.
Ободранные клумбы и сиротливый козырек навевают тоску, как, в сущности, все вокзалы. Единственная, радующая глаз деталь — огромная велосипедная парковка. Десятки, сотни велосипедов выстроены рядами на площадке справа от привокзальной площади, как будто все путешественники приехали сюда на велосипедах.
Внутри — жалкая вывеска бара, мусор на полу, два–три магазинчика — впечатление такое, что все постепенно приходит в упадок и некому навести порядок.
У единственной открытой билетной кассы стоят два чернокожих парня, да еще какие–то иностранцы, может, из Восточной Европы, пьют пиво в зале ожидания. Пустой вокзал, будто в это время никто никуда не уезжает.
Спускаюсь в небольшой подземный переход и выхожу на перрон ждать поезда Лео. На холодной мраморной скамье сидят две нигерийские девушки и оживленно беседуют на своем языке. Присаживаюсь рядом и улавливаю в их непонятном дна–логе несколько раз произнесенное слово «Падуя». Значит, они ждут поезд на Падую, на нем как раз едет Лео.
Вечер теплый и ясный. Я надела свой новый наряд: светлое платье, плащ и палантин. Волосы подколола наверх, как у Изабеллы. Хотела надеть еще серьги в форме черепа, но потом решила оставить свои прежние, в виде больших черных колец, которые Лео называет «панковскими украшениями». Желтые черепа, пожалуй, он не поймет.
Пять дней назад я вышла из поезда как раз на этом перроне.
И что мне удалось узнать за это время? Совсем чуть–чуть об исчезновении Майо, много нового о моей семье, о том, как давняя история повлияла на мамину судьбу.
Я поняла, что сыщик из меня никудышный. Одно дело — сочинять детективные истории, придумывать сюжет с вымышленными персонажами, и совсем другое — вести реальное расследование: мне кажется, я не совсем подхожу для такой работы. Теперь я знаю, что ответить, когда меня спросят, похожа ли я на героиню моих детективов, инспектора Эмму Альберичи: «Она — настоящий профессионал, я бы так не смогла».
Поезд оглушительно скрежещет тормозами, нигерийские девушки поднимаются, смеясь, и закидывают на плечи огромные сумки. Я волнуюсь, будто целую вечность не видела Лео.
— Ферара, станция Ферара, — объявляет голос, не умеющий произносить удвоенные согласные.
Из раскрытых дверей поезда на перрон высыпает молодежь, вероятно, студенты Болонского университета, почему–то особенно много девушек, точно таких же, каких я встречаю, когда иду к родителям: те же прически, те же тряпичные кеды, те же джинсы.
Лео, не спеша, выходит последним. На нем коричневый костюм и галстук в клетку — мой подарок. В одной руке у него — кожаный чемоданчик, в другой плащ. Вид у Лео усталый.
Увидев меня, он включает одну из своих восхитительных улыбок.
Лицо Лео напоминает мне мраморный бюст древнего римлянина — классическое, мужественное изваяние. Если бы он чуть–чуть похудел, получилась бы великолепная статуя, с широкой грудью и точеными ногами, которые он унаследовал от отца. Я видела его фотографии — это был красивый мужчина, с медными, как у Лео, волосами. Десять лет назад его не стало, но мама Лео часто рассказывает о нем: он был врач, увлекался историей, хорошо рисовал, любил готовить рыбу, играл в шахматы и страдал от неизлечимой болезни сердца. Я знаю о нем больше, чем о своем дедушке.

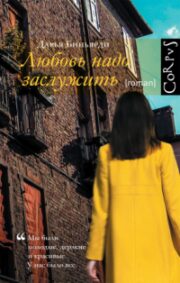
"Любовь надо заслужить" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовь надо заслужить". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовь надо заслужить" друзьям в соцсетях.