— Хорошо. Работал с одним испанским техником по спецэффектам, который потом перебрался в Голливуд, иногда ездил к нему в Лос — Анджелес. В последние годы у него появилась подружка, Флор, она жила в Фуэртевентура, и он часто бывал у нее. Флор и сообщила мне, что он умер.
— А как же Альма? Ему было неинтересно, как она живет? И как он исчез? — Я непроизвольно повысила голос.
— Мы об этом почти не говорили, — отвечает Микела шепотом, повернувшись ко мне и делая знак говорить тише.
— Не говорили?! Разве вы не дружили все втроем? Ему была не интересна сестра? А тебе? — продолжаю я свое.
— Антония, Майо был не такой, как все. Он был… другой. — Микела, кажется, теряет терпение. — Он был свободен. И говори тише, а то придет монахиня. Скажем тогда, что хотим посмотреть могилу Лукреции Борджиа.
— Я не могу, Микела, мне нужно в Болонью, к Альме. Я хочу узнать только, как он умер и как ему удалось исчезнуть.
— Умер от инфаркта, мне сказала Флор спустя несколько месяцев, никто не знал, что у него больное сердце.
— Ты уверена, что это правда? А если это очередная ложь?
— У него не было причин снова инсценировать свою смерть, через двадцать лет после «воскрешения». Он знал, я его никогда не предавала.
— Как ему удалось исчезнуть той ночью?
— Он написал мне письмо. Если хочешь, я дам тебе почитать, оно сохранилось.
— Когда? Мне нужно бежать к Альме.
— Вернусь домой, сканирую и отправлю тебе по электронной почте. Это все, что я могу сделать, Антония!
Я встаю, смотрю ей в лицо, она не отводит глаз, выдержав мой взгляд.
— Отправь сразу же, как сможешь, — говорю я, сжимая ее плечо. Чувствую ее торчащие тонкие кости. Воробьиные косточки.
Надо спешить домой. Альма скоро проснется. Как рассказать ей про Майо?
Дождь перестал, но на улице по–прежнему пустынно и тихо.
Я размышляю о кавалерах, которые сражались у этих стен на дуэлях семьсот лет назад. О Святой Екатерине, решившей прорубить дверь в задней стене церкви. О Майо, который звонит из Мадрида и узнает, что у него больше нет семьи.
Нельзя устраивать дуэль перед церковными воротами. Нельзя бросать сестру, оставшуюся сиротой.
Если я потороплюсь, успею на пятичасовой поезд.
Я сижу уже больше часа в коридоре с ореховыми стенами, ожидая, когда там, за стеклянной дверью, проснется мама.
Десять раз проверила почту в телефоне, но Микела пока не прислала ничего. Перечитала последнее письмо, адресованное Лео, в котором я рассказывала ему о нашем разговоре с Лией Кантони. Размышляю, как меня сбила с толку фраза об ошибках, за которые приходится платить — я полагала, что это намек на бабушкину измену, а потом Лия объяснила, что бабушка ни при чем, что она имела в виду крещение Джакомо. Тогда я не поняла, что вся эта история имеет ко мне самое прямое отношение.
Я до конца не верю в разгадку тайны Майо. А вдруг это очередная ложь? Может, он еще жив? Может, он решил разыграть очередное свое исчезновение, не будучи до конца уверенным, что Микела — единственный его свидетель — его не предаст? Все–таки история дедушки и бабушки оставила заметный след в жизни маминой семьи. Мне нужно поговорить с Лией. Сейчас время ужина, но я знаю, что еда для Лии далеко не главное, поэтому можно звонить смело. Лия отвечает после первого гудка.
В трубке слышна фортепьянная музыка, не могу понять, что именно. Голос Лии по телефону кажется моложе. Она уже в курсе событий.
— Антония? Спасибо, что позвонила. Как Альма? Я прочитала в газете, что ее сбили, — говорит она со своим неповторимым феррарским акцентом.
— Ей сделали операцию, все прошло хорошо, я в больнице, жду, когда она придет в себя после наркоза.
Я вышла из коридора на аварийную лестницу, чтобы никому не мешать. Из сада доносится запах мокрых сосен. В Болонье тоже весь день идет дождь, но тумана нет. В воздухе разлито приближение весны. Молодой медбрат в красном пуховике, накинутом поверх белого халата, курит, прислонившись спиной к перилам. На голове у него беспроводные наушники, он приветственно машет мне рукой и продолжает курить и слушать музыку, покачивая в такт головой.
— Ну, хорошо. Я беспокоилась и за нее, и за тебя, — говорит Лия.
— За меня? — удивляюсь я.
— Беременным нельзя волноваться.
Значит, она заметила, но почему–то ничего не сказала.
— Ты думала, я не заметила? — усмехается Лия. — Заметила, просто не стала комментировать, ты бы подумала, что я — одна из тех дотошных старух, которые повсюду суют свой нос…
«Про вас можно подумать все что угодно, только не это, скорее, наоборот… ” — хочется мне ответить.
С тех пор, как Альма в больнице, я стала все больше походить на мою Эмму Альберичи. Эмма — прямолинейная, конкретная. Она ничего не боится, не болтает о проблемах, а старается их решить. Я всегда мечтала быть такой, как она.
— Интересно, какой антоним к слову «любопытный»? — спрашивает Лия, и я не пойму, шутит ли она или говорит серьезно.
— Может быть, безразличный? Я хотела вам сказать, кажется, я поняла, что вы имели в виду, когда говорили об ошибках, за которые надо платить. Думаете, мой дед покончил с собой из–за… лучше вы мне ответьте.
Лия откашливается, шепчет Мине «нельзя!», хоть лая и не слышно.
— Я и сама до конца не понимала, пока ты не спросила. Я всегда была уверена, что Джакомо сделал неправильный выбор, но никогда не задумывалась, что он первый и заплатил за все. Все выжившие в нацистских лагерях чувствовали себя виноватыми, а каково было ему, ведь он не попал туда лишь по чистой случайности… Думаю, он очень страдал и хотел защитить своих детей от этой трагедии. Мы все судили о нем… слишком поверхностно, — говорит Лия.
Поразительно! Сколько лет этой женщине? Почти девяносто? А она так рассуждает. Я совершенно изменила свое мнение о ней.
— Никто из нас не спрашивал себя, почему твой дедушка всегда в депрессии. Но если внимательно посмотреть на то, что с ним произошло, понять было несложно. Он так и не смог изжить эту травму, хоть и женился, завел семью… — продолжает она. И добавляет: — Многие выжившие покончили с собой, вспомни Примо Леви. Настоящие ветераны — не те, кто остался в живых, а их дети. Выжившие, они… как живые мертвецы. Мы все знаем это, пусть и не признаем. Джакомо был не просто оставшимся в живых, он всю жизнь балансировал на краю пропасти и, когда Майо пропал, сорвался.
Слова Лии — как подтверждение моим догадкам: никто, очевидно, кроме жены, не понимал, какой ужас творился у Джакомо в душе.
Слушая Лию, замечаю, что медбрат в красном пуховике снял наушники и посматривает на меня, словно ждет окончания разговора.
Я смотрю на него вопросительно, знаками он показывает: «Мне нужно с вами поговорить, не торопитесь, я подожду», потом отворачивается и тушит сигарету о край перил. Вижу, что бычок он заворачивает в бумажную салфетку и кладет в карман.
— Я хотела бы приехать к вам после… а может, и до, вместе с Альмой! — завершаю я разговор с Лией. Почему–то не могу сказать, «после рождения ребенка», не знаю почему.
— Я буду рада, — оживляется Лия. — Передавай маме от меня привет, скажи… Нет, ничего. Передай привет, и все. Пока, Антония! Спасибо, что позвонила.
Слышу, как залаяла Мина.
— Спасибо вам, Лия.
Медбрат понял, что мой разговор закончен, оборачивается. Молодой, черные кудрявые волосы, четко очерченные нос и подбородок.
— Вы — дочь профессорши? — улыбаясь, спрашивает он, акцент выдает в нем южанина.
— Да, я дочь той женщины, которую вчера сбили.
— Я так и думал. В общем, хотел сказать, что цветы мы отнесли Мадонне в большую часовню, но все остальные подарки у нас в дежурке, — сообщает он мне радостно, как приятную новость. И, очевидно, прочитав на моем лице недоумение, поясняет: — Сегодня утром к вашей маме приходили студенты. Мы сказали, к ней пока нельзя, и они все это просили ей передать, жаль, цветы завянут, но там еще лимон в горшке, ему жара только на пользу.
— А, спасибо! Я не поняла… спасибо.
— Не за что! — И он охотно продолжает: — Никогда не видел столько гостей у пациента в реанимации. Видно, что они любят вашу маму Там еще плюшевый слон, девушка сказала, что это слониха, как она.
— Кто? Моя мама?
— Ну, девушка, которая его принесла, так сказала — слониха, но по–доброму. Как же ее звали… вроде Карлотта или Камилла. Как вы, такая! — Лицо его озаряется. — Тоже ждет ребенка. И еще они принесли миндальных конфет, целую корзинку, я не понял, то ли была уже свадьба, то ли будет. Мы вам оставили.
— Спасибо, пусть они лучше будут у вас.
— Ну, хоть одну–то попробуйте! Желтые конфеты… первый раз вижу желтые конфеты… Приходите, до конца коридора и налево, вместе с дедушкой приходите…
Дедушка… то есть мой папа, как раз в этот момент приоткрыл дверь на аварийную лестницу:
— Альма приходит в себя.
Альма
Мы знали, что наш отец — человек слабый, но в его любви никогда не сомневались, до того самого вечера.
Мы только вернулись домой, сели ужинать: мама приготовила каппеллетти в бульоне, который Майо шумно всасывал с ложки. Конечно, это некрасиво, и Майо просто валял дурака. Обычно это забавляло отца, но на этот раз он был, казалось, ко всему равнодушен.
Мама тоже молчала, может, просто устала, а может, для нашего восприятия, обостренного марихуаной, обычная тишина стала чем–то непривычным, невыносимым.
Думаю, Майо заговорил лишь для того, чтобы нарушить эту тишину.
— Мы с Микелой были сегодня на кладбище на виа делле Винье, классное место, почему вы нас никогда туда не водили? — начал он, посмотрев на маму так, словно искал похвалы.
Мама, вместо того чтобы улыбнуться и мягко подшутить над ним, как она обычно делала, когда Майо чем–то хвастался, с тревогой поглядела на отца. Тот резко поднял голову над тарелкой, уронив ложку в бульон и забрызгав белую скатерть, вышитую желтыми цветочками.
— Что вы там делали? — прошипел он.
Мы переглянулись — первой нашей мыслью было: кто–то увидел, как мы курили на кладбище, и все рассказал отцу.
Действие марихуаны еще не прошло, сердце билось, будто в ожидании чего–то ужасного.
— Что, нельзя просто сходить на еврейское кладбище? — ответил Майо удивленно и несколько обиженно и посмотрел на маму.
Отец отодвинул тарелку и сидел как оглушенный: его взгляд блуждал где–то далеко, и было что–то непонятное в этом взгляде. Несомненно, кто–то засек нас и донес родителям. Я поняла, что Майо решил выкручиваться и перейти в наступление.
— Что в этом плохого? — повторил он с обидой в голосе. — Или, может, у нас семья тайных антисемитов, а мы об этом не знали?
— Разве я сказал, что плохо? — закричал отец, отодвигая стул назад, и вскочил из–за стола с такой яростью, что мы испугались.
Все случилось так стремительно, мама тоже встала и, положив руку ему на плечо, повторяла: «Джакомо, ну, не надо… а он кричал все сильнее, стуча кулаком по столу так, что подпрыгивали тарелки со стаканами: «Разве я сказал, что плохо? А? А? Я сказал, что плохо?»
Это было невыносимо. Майо сидел растерянный, испуганный. Я понимала, у него в голове, как и у меня, проносятся все возможные варианты: родители узнали о наших плантациях на По, нашли запасы травы на чердаке, им сообщили, что видели нас на кладбище… и все же реакция отца казалась нам чрезмерной. Конечно, мы бы ни в чем не признались, ни за что на свете. Но мы не заслуживали такого отношения, отец просто сошел с ума. Мы оба так думали, только я сказала об этом вслух. Я тоже вскочила на ноги, держась за край стола, злые слезы текли по моему лицу.
— Папа, ты с ума сошел?! — крикнула я.
Тогда Майо поднял голову и тихо, с вызовом сказал: «Тоже мне новость… ”
Внезапно отец поднял руку и ударил Майо по лицу. Эта пощечина оглушила нас. Мама метнулась вперед всем телом, закрыв собой Майо, и, умоляюще сложив руки, смотрела на отца. Тогда он схватил супницу, нашу прекрасную старую овальную супницу из белого фарфора с золотым потертым ободком, и швырнул ее об пол. Супница разлетелась на четыре части, горячий бульон растекся по плитке, подбираясь к ковру. Я смотрела, как бульон затекает в швы между плиткой — каппеллетти на полу были похожи на улиток, на разбитую крышку, на потрясенную маму, на красные следы от пальцев на лице Майо. Как такое могло случиться? В нашей семье никогда не было жестокости, не могла же она проявиться вот так, внезапно? Если это случилось, значит, мы виноваты.
На мгновение все замерло как в стоп–кадре: мама в обнимку с Майо, отец со сжатыми кулаками и я, уставившаяся в пол.

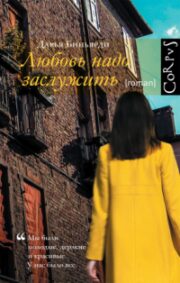
"Любовь надо заслужить" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовь надо заслужить". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовь надо заслужить" друзьям в соцсетях.