Тех, кто мог быть заинтересован в гибели посла, было великое множество, однако Паскаль, склонный видеть заговоры на каждом шагу – это, пожалуй, самая распространенная болезнь двадцатого века, – не собирался выделять из длинного списка кого-то одного, не желая по собственной воле влезать в этот запутанный лабиринт. Кто бы ни дергал за веревочки в этом представлении, ему это удалось на славу, как и все «спектакли» подобного рода. Уже в тот момент, когда Паскаль уводил Джини из Риджент-парка, он знал, что ждет их во всех тех домах, где они находились в последнее время: полное отсутствие каких бы то ни было достоверных свидетельств.
Он предупредил об этом Джини, но она не поверила ему. Впрочем, в тот момент она находилась в таком глубоком шоке, что ей не было дела ни до чего. Он оказался прав. В Сент-Джеймс-Вуде, в Хэмпстеде, в квартире в Айлингтоне – везде одно и то же: ни записей, ни фотопленок, ни блокнотов, ни кассет, ни наручников, туфель или чулок, ни даже оберточной бумаги. Все улики были изъяты.
– Ничего этого не было, – чуть позже скажет он Джини. – Ничего не происходило. Они хотят представить все именно так. Неужели ты сама не видишь этого, милая? Они словно ластиком стерли последние недели, превратили их в фантазию, в сон, в навязчивый бред.
Так кем же были эти тени, решившие, что пришла пора удалить Джона Хоторна кардинальным образом? Паскаль подозревал, что в этом были замешаны и американцы и англичане, а тот, кто отдал окончательный приказ, находился очень высоко. Его подозрения подтвердились, когда с помощью чокнутых на заголовках телевизионщиков и газетчиков начала вырисовываться официальная версия гибели Хоторна. Тогда-то на них с Джини и был в первый раз оказан скрытый, но мощный нажим.
В течение суток после убийства Хоторна была организована любопытная встреча. Оно состоялась в некой квартире в Уйат-Холле, а присутствовали на ней Джини, Паскаль, пожилой англичанин, имя которого ни разу не было произнесено, американец, который в основном молчал, но очень профессионально слушал, и присланный в свое время из Вашингтона телохранитель Хоторна. Тот самый, по фамилии Мэлоун.
На англичанине был какой-то невероятный твидовый костюм, а сам он выглядел так, будто только что выбрался из глухой провинции. Однако это впечатление было обманчивым. Он задавал великое множество вопросов, ответы на которые, как казалось Паскалю, ему были заранее известны. Манеры его были холодными и безупречно светскими, а глаза настороженными. После того, как англичанин умолк, на сцену выступил тихий американец. Паскаль заметил, что того больше интересовала Джини. Вел он себя раскованно и доброжелательно.
Разговор продолжался более двух часов. Паскаль решил придерживаться линии поведения, которая не раз выручала его в прошлом: он попросту все отрицал. Он нигде не был, ничего не видел и рассказывать ему не о чем. Это им, судя по всему, не понравилось. Вызывающий тон Паскаля особенно выводил из равновесия англичанина.
– Месье Ламартин, – произнес тот, подавшись вперед, – давайте-ка прекратим это притворство, и немедленно. Если у вас не было никакого задания, вы не работали ни над какой темой и, таким образом, не собираетесь публиковать свои якобы несуществующие материалы, зачем же вчера вечером и сегодня утром вы звонили в два американских журнала? И о чем вы беседовали с редакцией «Пари жур»?
– Это моя будничная работа, – пожал плечами француз. – Я постоянно сотрудничаю с этими изданиями.
– Послушайте… – заговорила Джини, перебив Паскаля. До сих пор она говорила очень мало, и ее ответы, хотя и более вежливые, чем Паскаля, тоже были довольно расплывчатыми.
– Послушайте, – тихо, но достаточно твердо повторила она, – а почему бы нам всем не перестать прикидываться? Мы с Паскалем прекрасно понимаем, для чего нас сюда привезли. Но у него нет ни пленок, ни снимков, у меня же отсутствуют какие-либо записи и магнитофонные пленки. Так стоит ли вам беспокоиться и устраивать подобную «чистку». Я узнала о Джоне Хоторне крайне мало, да и то, что мне удалось разузнать, я не имею ни малейшего намерения обнародовать. Я не собираюсь писать об этом статью. И я ухожу. Немедленно.
Тихий американец и англичанин в твиде обменялись быстрыми взглядами. Американец кивнул. Мэлоун поднялся и пошел открывать дверь. Когда Паскаль и Джини проходили мимо него, она остановилась и обратилась к нему:
– Вы знали?
Паскаль подумал, что у Мэлоуна честные глаза. Впрочем, то же самое можно сказать о всех представителях его профессии. Он спокойно встретил взгляд Джини.
– Нет, мэм, – ответил он. – Даю вам слово.
– Ваше слово? – облила его холодом Джини. Она обернулась на двух молчаливых мужчин, оставшихся за ее спиной, и с презрением, адресованным всем троим, включая Мэлоуна, бросила: – Вы все хорошо натасканные лжецы. Все. Вы даете мне слово? Какая чушь!
Паскаль отчасти разделял ее мнение о том, что каким бы испорченным ни был Хоторн, в его пороках, словно в зеркале, отражался мир, к которому принадлежал этот человек. Поэтому ему еще больше хотелось обнародовать истину, как бы мало для этого средств ни находилось в их распоряжении. Джини также злилась из-за того, что они попали в такой переплет, но ее подход был более трезвым.
– Нет, – говорила она каждый раз, когда Паскаль затрагивал эту тему. – Во-первых, я не в состоянии ничего доказать, а во-вторых, я предпочитаю, чтобы была обнародована официальная версия. Пусть крутят свое вранье повсюду. Не хочу, чтобы сыновья Хоторна разочаровались в своем отце. Пусть растут и верят в него. Не хочу разочаровывать Мэри. Какой смысл в том, чтобы посмертно разрушить его репутацию! Он мертв. Я не пойду на это, Паскаль.
– Ну ладно. А как насчет его отца?
– Его отец – умирающий старик. А теперь еще и сломленный.
– Хорошо. А Лиз? Она несет за смерть Хоторна не меньшую ответственность, нежели Макмаллен.
– Да знаю я все это! Но доказать не могу, точно так же, как и ты. Кроме того… – Джини секунду колебалась. – Я думаю, что не сегодня завтра Лиз наверняка будет наказана.
– Ты имеешь в виду, что ей «случайно» введут чрезмерную дозу какого-нибудь лекарства? Но, Джини…
– Может, случится и так. Впрочем, мне кажется, постороннее вмешательство не понадобится. Лиз сама себя доконает.
– Подожди, Джини, подумай немного…
– Нет, – отвечала она. – Нет.
А после этого отворачивалась от Паскаля и отказывалась продолжать этот спор. Несколько раз Паскалю казалось, что есть еще что-то, о чем Джини не хочет ему говорить, но в этом он не был уверен.
Время шло, Джини упрямо стояла на своем, а в одиночку Паскаль поделать ничего не мог. Гибель Джона Хоторна занимала первые полосы газет в течение четырех дней, а затем взорвалась еще одна бомба, подложенная ИРА, последовали новые схватки в Боснии, и эта новость сначала переместилась на внутренние полосы, а затем и вовсе сошла на нет. Джеймс Макмаллен был объявлен убийцей-одиночкой, который давно страдал психическим недугом, после службы в армии стал подвержен различным маниям, ушел в себя и наконец окончательно погрузился в пучину безумия. Хотя почти никакие подробности его военной карьеры не обнародовались, в печать просочились слухи о взаимной симпатии Макмаллена и активистов арабского национализма, бравшей начало еще в те годы, когда он служил в Омане.
Репутация Джона Хоторна, как блестящего политика, преданного слуги своей родины, любящего отца и верного мужа, осталась незапятнанной. Один из самых бесстыдных панегириков такого рода был опубликован в той самой газете, где работала Джини, – «Ньюс». Паскаль прекрасно понимал, где собака зарыта: Николас Дженкинс не только не был уволен, но, наоборот, недавно получил повышение. Теперь он являлся исполнительным редактором целой группы газет, принадлежащих лорду Мелроузу в Англии, и стал членом совета директоров его компании.
Паскаль вздохнул и попытался отделаться от этих мыслей, которые неотступно преследовали его в последнее время. Он стоял на ступенях собора и размышлял. Сзади, через плотно прикрытые двери до него доносились музыка и пение хора. До конца службы осталось совсем немного.
Паскаль прислонился к дверям и стал слушать музыку. Она успокоила кипевшее в нем яростное возмущение. Возможно, Джини была права, двигавшие им чувства были чересчур личными и смахивали на ревность. Хоторна действительно пора оставить в покое, а всю эту историю предать забвению.
Пение взмыло под самые своды собора. Мэри плакала и не пыталась скрыть своих слез, а Джини по-прежнему смотрела прямо перед собой. Ей казалось, что сквозь музыку она видит Джона Хоторна и улавливает присущий ему парадокс: порок и добро, слившиеся в одном человеке.
Возможно, многие бы с ней не согласились, но Джини была уверена, что она права. Это было единственное, в чем она вынесла уверенность из всего этого нагромождения лжи, взаимных упреков и разоблачений. Да, она не могла выбросить из памяти все, что узнала об этом человеке, но она не могла и осудить его.
Пение подходило к концу, и Джини закрыла глаза. Она была права, выбирая молчание, и была уверена, что со временем Паскаль тоже придет к пониманию этого. В течение нескольких последних недель она до мельчайших деталей пересказала ему, что происходило с ней в те выходные, точно так же, как он рассказал ей о своих приключениях. Она опустила лишь одно, не рассказав об угрозах С.С.Хоторна в их с Паскалем адрес. И, разумеется, она не сказала ничего о его угрозах в адрес Марианны. Так будет лучше, решила она, оградив Паскаля от страха за дочь, тем более что была уверена: теперь отец Хоторна уже не представляет никакой угрозы ни для них, ни для кого-либо еще. Сейчас, в церкви, глядя на него, Джини думала, как он переживает смерть сына. «Он тоже наказан, – вертелось у нее в голове. – Ему осталось недолго».
Хор теперь пел «Санктус» Моцарта. Слушая музыку, Джини одновременно думала, что в результате этой истории они с Паскалем многому научились, прошли через сомнения и боль. Теперь Паскаль нашел в себе силы бросить ту работу, которой он посвящал себя на протяжении последних трех лет. Джини была уверена, что он никогда больше не возьмется за нее, она знала, что, подыскивая для себя какое-нибудь другое занятие, Паскаль обязательно вернется к тому, что у него всегда получалось лучше всего – военной фотожурналистике.
Она и сама многому научилась. В какой-то момент из тех трех недель она наконец стряхнула с себя свою прежнюю зависимость от отца. Глядя на Хоторна, она видела, каким разрушительным оказалось для него влияние отца, а ее последняя встреча с Сэмом стала последней каплей: ярмо, которое она так долго влачила на себе, наконец свалилось с нее. Она более не чувствовала себя дочкой, теперь она была женщиной. И у нее не было никакого желания видеться с отцом, а если бы такое случилось, то Джини знала, что уже не станет питать иллюзий и придумывать ему оправдания. «Все кончено, – думала она. – Я свободна».
После того, как «Санктус» подошел к концу, окончилась и заупокойная служба. Присутствующие поднялись с мест. Медленно проследовав по центральному проходу, родственники Хоторна вышли первыми. Когда С.С.Хоторн приблизился к Джини, она увидела, что прошедшие восемь недель и потеря старшего сына состарили его лет на двадцать. Он, сгорбившись, сидел в кресле, которое толкали сзади, руки его неудержимо тряслись. Сейчас он выглядел просто потерянным и испуганным стариком.
Лиз шла, крепко вцепившись в руку Прескотта. Взгляд ее был отсутствующим, словно она не понимала, где и зачем находится. Будто в трансе, двигалась она по проходу на негнущихся ногах, устремив невидящие глаза прямо перед собой. Двух ее маленьких сыновей оттеснили от нее, и, как подумала Джини, в скором времени это будет сделано уже официально, с соблюдением всех формальностей. Позади Лиз толпились родственники Хоторна. При взгляде на них в голову сразу приходила мысль о мощном семейном клане. Сыновья Хоторна шли рядом с его старшей сестрой, вместе с ее сыновьями. Джини поняла, что и отец, и вдова Хоторна уже стали для этих людей чужаками. Теперь остальные члены клана смотрели на них, как на аутсайдеров, сомкнув свои ряды и защищая репутацию покойного брата и его детей. Джини смотрела на бледные и вытянутые лица мальчиков. Они оба, особенно старший, были очень похожи на своего отца. Она отвернулась и постаралась успокоиться, вслушиваясь в органную музыку. Моцарт. Джини вспомнила, как Хоторн поставил ей Моцарта в своей машине. «Пока звучит музыка, во мне живет надежда», – сказал он тогда.
Она вспомнила неожиданную и острую симпатию, которую испытала вдруг к этому человеку, необъяснимую тягу к нему, пронзившую ее, когда они были той ночью одни в ее квартире. Теперь, когда она уже знала, каким жестоким и развращенным человеком был Джон, это воспоминание заставило ее испытать стыд. Но как бы ни было сейчас мучительно признавать это, от памяти отмахнуться нельзя, и такое чувство – невообразимое сейчас – тогда действительно посетило Джини. Она была уверена, что ни ей самой, ни Паскалю уже не удастся подойти к этой теме с той аналитической непредубежденностью, которая, по ее собственному мнению, является важнейшим элементом профессии журналиста. Теперь она уже не была уверена в том, что такая непредубежденность вообще возможна в данном случае. Журналистика базируется на фактах, а в этой история факты играли не главную роль. Пусть даже она и сможет написать статью обо всем произошедшем, размышляла Джини, снабдив ее убедительными доказательствами, она сама не знает, да, наверное, никогда и не узнает, ответа на главный вопрос: что являлось источником зла в Хоторне и как случилось, что это зло поселилось в сердце такого человека?

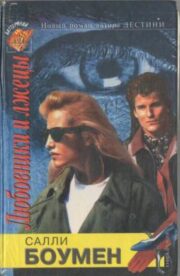
"Любовники и лжецы. Книга 2" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовники и лжецы. Книга 2". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовники и лжецы. Книга 2" друзьям в соцсетях.