Мирча Элиаде
Майтрейи
Tomar ki mane acche, Maitreyi?
Yadi thake, tahale ki kshama karte paro?..[1]
I
Я долго колебался, приступая к этим запискам, потому что мне до сих пор так и не удалось установить дату моего знакомства с Майтрейи. В своем дневнике за тот год я напрасно искал ее имя. В дневнике оно возникает много позже, уже после того, как я вышел из больницы и поселился в доме инженера Нарендры Сена, в квартале Бхованипор. Но это относится к осени двадцать девятого года, а я познакомился с Майтрейи по крайней мере десятью месяцами раньше. И если что и мешает мне начать рассказ, так это именно непонятные пробелы в дневнике, не дающие мне пережить наново шок, озадаченность и смятение от первых встреч.
Первый раз я увидел ее у магазина «Оксфордская книга» — она ждала в машине, пока мы с ее отцом, инженером, выберем книги для рождественских подарков, — и, помню, испытал едва ли не потрясение, сопровождаемое, как ни странно, брезгливостью. Она показалась мне безобразной: эти слишком большие и слишком черные глаза, эти толстые, вывороченные губы, эта литая грудь, — словом, бенгальская девушка с преувеличенной плотью, как набухший зрелостью плод. Когда я был представлен и она в приветствии поднесла ко лбу сложенные ладони, мне бросилась в глаза ее обнажившаяся до плеч рука, и меня пронзил цвет ее кожи — матово-смуглый, оттенка, какого я ни у кого раньше не видел, смесь глины и воска, так я бы сказал. Тогда я жил еще на Уэллсли-стрит в пансионе «Райпон», и моим соседом по блоку был Гарольд Карр из морского торгового ведомства, я водил с ним дружбу, потому что у него, как у старожила, были в Калькутте знакомства, и он брал меня с собой в гости, в семейные дома, а по выходным мы с его девушками ходили на танцы. Вот этому-то Гарольду я и попытался описать — чтобы прояснить впечатление скорее для самого себя — голую руку Майтрейи, странность горчичного колорита кожи, такого волнующего, но меньше всего по-женски, словно это была рука богини, а не обычной смертной.
Гарольд брился, сидя за своим столиком перед зеркалом на подставке. Как сейчас, вижу эту сцену: чашки с чаем, его сиреневая пижама, запачканная ваксой (за что он до крови избил боя, хотя запачкал ее сам, когда пьяный вернулся ночью с бала ИМКА[2]), никелевые монеты, рассыпанные по неубранной постели, и я, в тщетной попытке прочистить трубку бумажным жгутом, скрученным до толщины спички.
— Нет, ей-Богу, Аллан, как тебе может нравиться бенгалка? Тошнит на них глядеть. Я здесь родился, в Индии, и знаю их получше, чем ты. Они грязные, уверяю тебя. И потом, подкатываться к ним бесполезно. Эта твоя девица даже прикоснуться к себе не даст…
Я слушал его с необыкновенным наслаждением, хотя Гарольд ничего не понял и думал, что если я говорю о чьей-нибудь руке, то, значит, с совершенно определенным прицелом. Это удивительно, как мне нравится слушать гадости о тех, кого я люблю или с кем чувствую близость. Когда я кого-то по-настоящему люблю, а его ругают последними словами, для меня это словно маслом по сердцу, таким образом проявляют себя подсознательные процессы, которых я не понимаю и в которых предпочитаю не копаться. Я сказал бы так: параллельно со страстью или искренним интересом к кому-то во мне растет и другая, зловредная страсть, требующая зачеркнуть, изгадить, развенчать первую. Не знаю. Но, застигнув себя на чувстве удовлетворения от идиотских замечаний Гарольда — недалекого и фанатичного, как все евразийцы, — которые он делал в адрес бенгальских женщин, я немедленно понял, что Майтрейи оставила в моих мыслях, или моих желаниях, впечатление отнюдь не поверхностное. Это и удивило, и смутило меня. Я ушел к себе в комнату, машинально продолжая чистить трубку. Что было после, не могу сказать, потому что привожу эпизод по памяти, я и не вспоминал о нем до случая с гирляндой из жасмина, о которой еще пойдет речь в этой тетради.
В то время моя колониальная карьера была в самом начале. Я приехал в Индию с известной суммой предрассудков, состоял членом Ротари-клуба, очень гордился своим метрополийским происхождением и гражданством, увлекался математической физикой (хотя в отрочестве мечтал стать миссионером) и пунктуально вел дневник. Поработав в местном представительстве заводов «Ноэль энд Ноэль», я устроился прорабом в новом обществе по прокладке каналов в дельте. Там я ближе познакомился с Нарендрой Сеном, человеком очень известным и уважаемым, первым в Калькутте инженером с Эдинбургской премией, и моя жизнь приняла иной оборот. Теперь я меньше получал, зато мне нравилась работа. Не надо было торчать в душной конторе на Клайв-стрит, подписывать и разбирать бумажки и по вечерам неизменно напиваться, чтобы не впасть в ипохондрию. Каждые две-три недели я выезжал на объект — я отвечал за работы в Тамлуке, — и сердце радовалось, когда я видел, как продвигается дело.
Эти месяцы были для меня по-настоящему счастливыми, потому что на рассвете я садился в экспресс Хаура — Мадрас и к полудню прибывал на стройку. Мне всегда нравилось путешествовать по нашим колониям. По Индии первым классом — это просто праздник. Я ощущал дружелюбие вокзала всякий раз, когда высаживался из такси и бодро бежал по перрону: каскетка надвинута на глаза, позади мой бой, под мышкой пяток иллюстрированных журналов, в руках пара пачек «Кэпстэна» (я много курил в Тамлуке и не мог пройти мимо табачной лавки в Хауре, чтобы не купить «Кэпстэна» про запас, — так меня преследовало воспоминание об одной ночи, когда мне нечем было набить трубку и пришлось курить с рабочими их махорку). Я никогда не вступал в разговор с соседями по купе, мне не нравились ни бара-сахибы[3], недоучки из Оксфорда, ни коммивояжеры с торчащими из карманов детективами, ни богатые индийцы, которые научились путешествовать первым классом, но не научились носить пиджак и пользоваться зубочисткой. Я смотрел в окно на поля Бенгала — никем не воспетые, никем не оплаканные, и мне хотелось молчать даже с самим собою, ничего не прося, ничего не желая…
На стройке я чувствовал себя полновластным хозяином, как если бы был там единственным белым. Те несколько евразийцев, которые руководили работами на участке возле моста, не пользовались таким авторитетом: они добирались до места третьим классом, носили обычные костюмы-хаки — шорты и блузу с большими нагрудными карманами — и крыли рабочих на правильном хинди. Совершенство языка и богатый арсенал бранных слов принижали их в глазах рабочих. Я же говорил плохо и с акцентом, и это внушало им уважение, потому что подтверждало мою иностранность и мое превосходство. Впрочем, я с большой охотой беседовал с ними по вечерам, перед тем как забраться в свою палатку, чтобы сделать запись в дневнике и спокойно выкурить на ночь трубку. Я любил этот приморский кусок земли, эту печальную, населенную змеями равнину, где пальмы были редки, а кусты ароматны. Я любил час перед рассветом, когда стояла такая тишина, что хотелось скулить от радости, я ощущал, почти как человеческое, одиночество этой равнины, такой зеленой и такой всеми забытой, ждущей странника под самым красивым небом, какое мне дано было видеть в жизни.
Дни на стройке казались каникулами. Я работал всласть, отдавал распоряжения направо и налево, меня переполняла радость, и не хватало только умного друга рядом — разделить это дивное состояние.
Однажды, когда я возвращался из Тамлука, прокаленный солнцем и со зверским аппетитом, и ждал на перроне, пока бой найдет мне такси, я встретил Люсьена Меца, а вернее, он сам налетел на меня (как раз пришел бомбейский экспресс, и на вокзале было столпотворение). С Люсьеном мы познакомились два года назад в Адене: я ехал в Индию, а он — в Египет, куда его должен был доставить итальянский пароход. Мне с самого начала понравилось в нем сочетание невежества и наглости. Этот газетчик, очень талантливый и неимоверно остроглазый, стряпал экономические обзоры, листая прейскуранты на борту парохода и сравнивая их с теми, что получал в порту, и мог превосходно описать город, по которому прогнал полным ходом на автомобиле. К моменту нашего знакомства он уже исколесил Индию, Китай, Малайю и Японию и принадлежал к числу тех, кто честил почем зря махатму Ганди не за то, что тот сделал, а за то, чего не сделал.
— Эй, Аллан! — крикнул он мне, нисколько не удивившись встрече. — Все по Индиям, mon vieux[4]? Втолкуй, будь добр, этому типу, который притворяется, что не понимает моего английского, чтобы он отвез меня в ИМКА, а не в отель. Я приехал писать книгу про Индию. Бестселлер, политика напополам с детективом. Я тебе расскажу — ахнешь!
Люсьен в самом деле приехал писать книгу о современной Индии и обретался здесь уже несколько месяцев; брал интервью, посещал тюрьмы, фотографировал. В первый же вечер он показал мне свой альбом и коллекцию автографов. Если с чем у него и была загвоздка, так это с главой о женщинах, он еще не вышел на настоящих индийских женщин и имел довольно смутные представления об их жизни в парда[5], об их гражданских правах и особенно о детских браках. Он все спрашивал меня:
— Аллан, неужели правда, что индийцы женятся на восьмилетних девочках? Нет, правда, я прочел в книге у одного типа, который тридцать лет протрубил тут в магистрате…
Мы провели вместе очень приятный вечер на веранде в моем пансионе, но я при всем желании тоже не мог внести ясность в вопрос, потому что о частной жизни индийцев знал только по кино. Однако мне пришла в голову мысль напроситься в гости к Нарендре Сену, чтобы тот просветил Люсьена. Может быть, меня грела мысль получше разглядеть Майтрейи, которую я с того раза у книжного магазина больше не видел, поскольку мои прекрасные отношения с Сеном не выходили за рамки деловых контактов в конторе и бесед в машине по дороге домой. Случалось, он приглашал меня к чаю, но я, дорожа своим досугом, который старался отдавать математической физике, всякий раз уклонялся.
Когда я сообщил ему, что Люсьен Мец пишет книгу об Индии и собирается печатать ее в Париже, и еще сказал, какая именно глава вызывает у него затруднения, Сен предложил мне привести Люсьена в гости не откладывая, в тот же вечер. С какой радостью я взлетел по ступеням пансиона, чтобы сообщить ему об этом! Люсьен, ни разу не попадавший в состоятельный индийский дом, стал предвкушать, какой блестящий репортаж он напишет.
— Этот твой Сен из какой касты? — поинтересовался он.
— Настоящий брахман, но совсем не ортодоксальный. Он и член-учредитель Ротари-клуба, и член Калькуттского, и в теннис превосходно играет, и машину водит, и ест рыбу и мясо, и даже приглашает в дом европейцев и представляет их жене. Ты будешь очарован, вот увидишь.
Надо признаться, что дом инженера вызывал у меня изумление не меньшее, чем у Люсьена. Этот дом в Бхованипоре я однажды видел из машины, когда заезжал к Сену за кое-какими чертежами. Но я бы никогда не подумал, что во внутреннем убранстве бенгальского дома могут обнаружиться такие тонкости: такое нежное преломление света сквозь прозрачные, как шали, занавеси, такие мягкие на ощупь ковры, кушетки, покрытые тканями Кашмира, одноногие столики, подставляющие свои латунные столешницы под чашки с чаем и бенгальские пирожные, выставленные Нарендрой Сеном для просвещения Люсьена. Я разглядывал все это так, как будто только что попал в Индию. Околачиваться здесь два года и ни разу не удосужиться подойти к бенгальцам поближе, оценить хотя бы их быт, если не душу! Я жил посреди колониальной страны один на один со своей работой, читая те книги и смотря те спектакли, которые с таким же успехом мог прочесть и посмотреть, оставаясь в метрополии, среди белых! В тот вечер я узнал первые сомнения и, помню, вернулся домой несколько подавленный. Люсьен кипел от восторга и проверял свои впечатления, справляясь у меня, верно ли он понял те или иные слова хозяина, я же был полон мыслей, которые до той поры никогда у меня не возникали. Тем не менее никакой записи в дневнике я не сделал и напрасно сегодня ищу в нем какой-нибудь след, какой-нибудь намек на встречу с Майтрейи. Это удивительно, насколько я не способен предвидеть значительные события, угадывать людей, которым суждено изменить направление моей жизни.
Майтрейи, в сари и покрывале разных оттенков желтого — чайной розы и желтой черешни, в белых, шитых золотом туфлях, показалась мне гораздо красивее, и ее слишком черные волосы, слишком большие глаза, слишком красные губы словно одушевляли чем-то надчеловеческим ее тело, обвитое одеждами и все же проступавшее сквозь них, как будто бы обязанное своим бытием чуду, а не законам биологии. Я смотрел на нее с любопытством, потому что не мог понять, что за тайну несет это существо в своих мягких, шелковых движениях, в робкой улыбке, вот-вот готовой смениться гримасой паники, а прежде всего — в своем голосе, бесконечно изменчивом, будто сию минуту открывающем для себя те или иные звуки. Она говорила на стертом и правильном школярском английском, но стоило ей открыть рот, и я, и Люсьен замирали — такой зов был в этом голосе!..

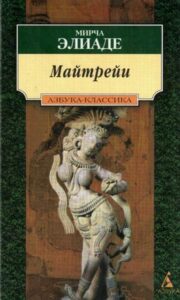
"Майтрейи" отзывы
Отзывы читателей о книге "Майтрейи". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Майтрейи" друзьям в соцсетях.