Под «вопросами», без всякого сомнения, следовало понимать возможность, для ее сына, наследовать титул, за смертью старшего брата.
Теперь она вполне поняла все свое безумие, а частью и свою вину. На это второе воззвание она написала коротенький ответ, из-за которого не спала всю ночь.
«Дорогой мистер Гринвуд, я говорила с маркизом, он ничего делать не хочет.
Искренне вам преданная
Записку эту она отправила, не сказав мужу ни слова.
Спустя несколько дней, было получено третье письмо следующего содержания:
«Дорогая лэди Кинсбёри!
Не могу позволить себе думать, чтоб этим все должно было кончиться, после стольких лет близости и сердечного обмена мыслей. Представьте себе положение человека моих лет, вынужденного, после жизни, исполненной довольства и удобств, существовать на жалкую пенсию в 200 фунтов в год. Это просто означает — смерть! Неужели я не вправе ожидать чего-нибудь лучшего от тех, кому посвятил всю жизнь?
Кто лучше меня знал, насколько самое существование лорда Гэмпстеда и лэди Франсес Траффорд служило камнем преткновения для вашего честолюбия, милэди? Я, без сомнения, сочувствовал вам, отчасти в виду их странностей, отчасти из искренней преданности к вам. Не может же быть, чтоб вы теперь видели во мне врага, потому что я должен был ограничиться одним сочувствием!
Копать я не могу. Просить стыжусь. Едва ли вы можете желать, чтоб я погиб от нищеты. Пока я еще не был доведен до необходимости рассказать свою печальную повесть кому-нибудь, кроме вас. Не вынуждайте меня к этому ради милых деток, счастье которых я всегда принимал так близко к сердцу.
Остаюсь, милэди, вашим преданнейшим
и верным другом
Послание это так напугало маркизу, что она начала обдумывать, как бы ей собрать достаточную сумму денег, чтоб удовлетворить этого человека. Ей удалось послать ему банковый билет в 50 фунтов. Но он был слишком осторожен, чтобы принять его.
Он возвратил его, сказав, что не может, несмотря на крайнюю бедность, принять случайную помощь, которую ему оказывают из милости. Он требовал — и считал себя вправе требовать — увеличения назначенной ему пенсии.
— Придется, — прибавлял он, — опять побеспокоить маркиза и определеннее объяснить свое требование.
Тут лэди Кинсбёри показала все письма мужу.
— Что он хочет сказать своими «камнями преткновения»? — спросил маркиз в гневе. Произошла довольно печальная сцена. Маркизе пришлось сознаться, что она очень откровенно говорила с капелланом о детях мужа.
— Откровенно, что значит: откровенно? Вам хочется их столкнуть с дороги?
На этот раз лэди Кинсбёри нашлась. Она объяснила, что не желала сталкивать их с дороги, но что ее привели в ужас их совершенно невозможные, по ее мнению, понятия о собственном положении в свете. Браки, которые они собирались заключить, заставили ее говорить с капелланом так, как она говорила. Живя одна в Траффорде, она, конечно, открывала свою душу священнику. Она смело опиралась на несомненный факт, что мистер Гринвуд — священник. Гэмпстед и Фанни были камнями преткновения для ее честолюбия просто потому, что она желала для них приличных партий. Вероятно, говоря все это, она думала, что говорит правду. Во всяком случае это было принято, как она того желала.
Но маркиз послал за мистером Коммингом, своим адвокатом, и вручил ему все письма, с такими объяснениями, какие нашел нужным дать. Мистер Комминг, в первую минуту, посоветовал совершенно прекратить пенсию; но маркиз на это не согласился.
— Мне не хотелось бы, чтоб он умер с голода, — сказал маркиз. — Но если он будет продолжать писать милэди, что-нибудь надо же предпринять.
— Письма с угрозами, с целью выманивать деньги, — самоуверенно сказал адвокат, — завтра же могу вызвать его в суд, милорд, если б вы сочли это нужным.
Было, однако, признано более удобным, чтоб мистер Комминг сначала послал за мистером Гринвудом и объяснил этому джентльмену свойства закона. Он написал очень вежливую записку мистеру Гринвуду, прося его побывать у него. Мистер Гринвуд явился на этот зов.
Мистер Комминг, когда священника ввели к нему в комнату, сидел у стола, на котором лежали письма — различные письма мистера Гринвуда к лэди Кинсбёри — они были развернуты, так, чтобы посетитель мог видеть их, но адвокат не имел намерения пустить их в ход, иначе как в случае крайней необходимости.
— Мистер Гринвуд, — сказал он, — до меня дошли слухи, что вы недовольны цифрой пенсии, которую назначил вам маркиз Кинсбёри, когда вы его оставили.
— Недоволен, мистер Комминг, конечно недоволен. 200 фунтов в год не…
— Положим триста, мистер Гринвуд.
— Действительно, лорд Гэмпстед говорил что-то…
— А кое-что и уплатил. Положим, триста фунтов. Хотя цифра тут ничего не значит. Маркиз и лорд Гэмпстед твердо решились ее не увеличивать.
— Да?
— Они положили, что ни при каких обстоятельствах не увеличат ее. Они могут найти нужным прекратить пенсию.
— Что это, угроза?
— Конечно, угроза, если хотите.
— Милэди знает, что со мной в этом деле поступают очень дурно. Она прислала мне билет в 50 фунтов, и я возвратил его. Не этим способом желал я быть вознагражденным за мои услуги.
— Для вас же лучше, что возвратили. Не будь этого, я, конечно, не мог бы просить вас посетить меня здесь.
— Не могли бы?
— Нет, не мог бы. Вы, вероятно, понимаете, что я хочу сказать. — Мистер Комминг положил руку на письма, ничем, впрочем, на них не намекая. — Мне кажется, — продолжал он, — что нескольких слов достаточно, чтобы решить все, что нас занимает. Маркиз, по человеколюбивым побуждениям, которым я, по крайней мере в данном случае, не сочувствую, крайне не желает прекратить, или даже уменьшить щедрую пенсию, которая вам выдается.
— Щедрая — после службы, продолжавшейся целую жизнь!
— Но он это сделает, если вы еще будете писать письма кому-нибудь из членов его семьи.
— Это тиранство, мистер Комминг.
— Прекрасно. В таком случае маркиз — тиран. Но он пойдет дальше этого. Если бы оказалось нужным защитить или его самого, или кого-нибудь из членов его семьи, от дальнейшей назойливости, он прибегнет к законным мерам. Вы, вероятно, знаете, что это было бы крайне неприятно маркизу. Но в случае необходимости, ничего больше не останется. Я не прошу у вас никаких уверений, мистер Гринвуд, так как вам, может быть, нужно несколько времени на размышление. Но если вы не желаете лишиться вашего дохода и быть вызванным в полицейский суд, за попытки выманивать деньги посредством угрожающих писем, вам не мешало бы попридержать руку.
— Я никогда не угрожал.
— Мое почтение, мистер Гринвуд.
— Мистер Комминг, я никому не угрожал.
— Мое почтение, мистер Гринвуд. — Тут бывший капеллан распростился.
До наступления вечера этого дня он решил взять свои триста фунтов в год и молчать. Маркиз, как теперь оказывалось, не был так плох, как он думал, ни маркиза так напугана. Приходилось отказаться от своего намерения; но при этом он продолжал уверять себя, что его очень обидели, и не переставал обвинять лорда Кинсбёри в страшной скупости, за то, что он отказался вознаградить надлежащим образом человека, который служил ему так долго и так верно.
XXXII. Хранитель государственных актов
Хотя лорд Персифлаж, по-видимому, очень сердился на упрямого герцога, тем не менее он с удовольствием разрешил пригласить Джорджа Родена в замок Готбой.
— Конечно, мы должны что-нибудь для него сделать, — сказал он жене, — но я ненавижу совестливых людей. Я вовсе не виню его за то, что он сумел влюбить в себя такую девушку, как Фанни. Если бы я был почтамтским клерком, я сделал бы то же самое.
— Полно, пожалуйста. Ты никогда не дал бы себе этого труда.
— Но сделав это, я не причинил бы ее друзьям больше забот, чем это было бы строго необходимо. Я знал бы, что им придется тащить меня на своих плечах. Я ожидал бы этого. Но я не стал бы ломаться, если б случай мне не благоприятствовал. Почему бы ему не принять титула?
— Конечно, мы все желаем, чтобы он это сделал.
— Фанни ничем не лучше его. Она заразилась идеями Гэмпстеда насчет равенства и поощряет молодого человека. Во всем этом, от начала до конца, виноват Кинсбёри. Он вступил в жизнь не с той ноги и теперь никак не может справиться. Аристократ-радикал — в самых этих словах уже заключается противоречие. Очень хорошо, что существуют радикалы. Без них на свете было бы скучно, делать было бы нечего. Но человек не может быть, в одно и то же время, овцой и волком.
Вскоре после похорон Марион Фай Роден выехал в Кумберлэнд. В течение двух последних месяцев болезни Марион, Гэмпстед и Роден видались очень часто. Они не жили вместе, так как Гэмпстед объявил, что не в состоянии выносить постоянного общества. Но редкий день приятели не видались на несколько минут. У Гэмпстеда вошло в привычку отправляться верхом в Парадиз-Роу, когда Роден возвращался со службы. Сначала мистрисс Роден также присутствовала при этих свиданиях, но, за последнее время, она жила в Пегвель-Бее. Тем не менее лорд Гэмпстед приезжал, обменивался с другом несколькими словами и снова возвращался домой. Когда в Пегвель-Бее все было кончено, перед похоронами и в течение нескольких дней подавляющей скорби, которые следовали за ними, он вовсе не показывался; но в вечер накануне отъезда приятеля в замок Готбой, он опять появился в Парадиз-Роу. На этот раз он пришел пешком, и на обратном пути приятель проводил его до половины дороги.
— Надо тебе за что-нибудь приняться, — сказал ему Роден.
— Не вижу необходимости делать что-нибудь особенное. Какая масса людей ни за что не принимается!
— Люди или работают, или веселятся.
— Не думаю, чтобы я стал усиленно веселиться.
— Не скоро, конечно. Ты любил удовольствия; но я легко могу понять, что способность веселиться тебе изменила.
— Охотиться я не буду, если ты думаешь об этом.
— Вовсе нет, — сказал Роден. — Мне хотелось бы только, чтобы ты чем-нибудь занялся. Какое-нибудь занятие необходимо, иначе жизнь будет невыносима.
— Она и есть невыносима, — сказал молодой человек, смотря в сторону, так, чтобы лица его не было видно.
— Но выносить ее надо. Как бы ноша тяжела ни была, сбросить ее нельзя. Ты не намерен кончить с собой?
— Нет, — задумчиво ответил Гэмпстед, — нет. Этого я не сделаю. Если б кто-нибудь отправил меня на тот свет!
— Никто не отправит. Не иметь какого-нибудь плана деятельной жизни, какого-нибудь определенного труда, который помогал бы занимать время, было бы слабостью и трусостью, немногим лучше самоубийства.
— Роден, — сказал молодой лорд, — твоя строгость жестока.
— Вопрос в том — справедлива ли она. Называй ее как хочешь, называй меня как хочешь, но можешь ли ты опровергнуть мои слова? Неужели ты не сознаешь, что твой долг, как мужчины, приложить ум и волю, какие у тебя есть, к какой-нибудь цели?
Тут понемногу лорд Гэмпстед объяснил цель, которой он задался. Он намерен был построить яхту и отправиться путешествовать по белому свету. Он наберет с собой книг и будет изучать народы и страны, которые посетит.
— Один? — спросил Роден.
— Да, один, насколько человек может быть один, когда его окружают команда и капитан. Дорогой я буду приобретать знакомства и буду в состоянии выносить их, именно потому, что они будут случайные. Люди эти не будут иметь никакого понятия о моей скрытой ране. Если бы ты был со мной — положим, вы с сестрой — или Вивиан, или кто-нибудь из здешних, кто знал бы меня прежде, я не мог бы даже попытаться поднять голову.
— Это прошло бы.
— Я отправлюсь один и начну новую жизнь, которая не будет иметь никакой связи со старой.
Он стал объяснять, что немедленно примется за работу. Надо построить яхту, собрать команду, приготовить запасы. Он думал, что этим путем найдет себе занятие до весны. Весною, если все будет готово, он снимется с якоря. До наступления этого времени он будет жить в Гендон-Голле, по-прежнему один. Он настолько, однако, смягчился, что сказал, что если сестра его выйдет замуж, прежде, чем он начнет свои странствования, он будет на ее свадьбе.
В течение вечера он объяснил Родену, что они с отцом согласились дать лэди Франсес 40,000 фунтов в день ее свадьбы.
— Неужели это необходимо? — спросил Роден.
— Жить надо; а так как ты попал в одно гнездо с трутнями, то придется, до некоторой степени, жить их жизнью.

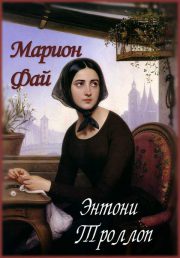
"Марион Фай" отзывы
Отзывы читателей о книге "Марион Фай". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Марион Фай" друзьям в соцсетях.