Анатолий Павлович Каменский
Мой гарем
Настурции
У цветка настурции два запаха: один (если понюхать сердцевину) — едкий, неприятный, напоминающий собою маринованный перец, другой — необычайно нежный, наивный, немножко грустный и притом какой-то девичий запах, с оттенком провинциального кокетства. Это — у самого края лепестков.
Вдумываться в этот второй очаровательный аромат, приблизив к лицу букетик только что сорванных цветов, лучше всего вечером, перед закатом солнца. Незаметно у вас закружится голова, и вдруг тоненькие девичьи руки ласково обовьют вам шею, ясные глазки откровенно и лукаво прильнут к вашим глазам, и вы услышите немой, настойчивый вопрос: «Помнишь свою юность? Помнишь? Помнишь?..»
Вы очнетесь… Конечно, никого нет. Сладко и тревожно бьется сердце, желтые или красные цветочки простодушно смотрят на вас.
Я еще не был юношей в принятом смысле этого слова, мне едва исполнилось 14 лет, когда родители привезли меня из Петербурга к своей бабушке, а моей прабабушке, в южный городок. Помню, созрели персики, дыни, и уже второй раз была скошена трава. Терраса бабушкиного дома, находившегося в центре городка, вплотную, до самой крыши была обвита матовой зеленью настурций. Я уже успел набегаться по улицам, поторчать на вершине холма, откуда так хорошо виднелись извилины плоского серебряного Дона, объесться персиками и сливами в бабушкином саду, сжечь себе половину лица отвесными червонно-золотыми солнечными лучами. Едва могли дозваться меня обедать на террасу.
Тут за столом я увидел, кроме своих родителей, сгорбленную, седенькую, желтенькую «бабулиньку» и высокую, некрасивую, повелительную тетю Олю, которых хорошенько не рассмотрел утром при первой встрече.
— Ну, теперь все в сборе, — сказала тетя Оля и сделала знак лакею подавать.
— А Катюша разве не выйдет? — с какой-то непонятной для меня осторожностью спросила моя мама.
— Нет, не выйдет, — коротко и тоже осторожно ответила тетя Оля.
— Можно мне зайти к ней?
— Зайди, — неопределенно сказала тетя и добавила, заметив недоумение у меня на лице: — Это твоя самая молодая тетя. Она нездорова, но дня через два ты ее увидишь. Она тебе понравится. Только ты не беспокой ее и не расспрашивай ни о чем. Ей это запрещено.
— Почему запрещено? — ребячески просто спросил я.
— У нее был тиф, и после этого… расстроились нервы. Она долго лежала в больнице, и мы решили, что лучше ей жить дома, у нас. Она ничего, добрая. Вообще ты поменьше смотри на нее. Гуляй себе. Понемногу сам увидишь, в чем дело.
И тетя Оля заговорила по-французски с моим отцом, который заинтригованно и в то же время чуть-чуть снисходительно улыбался и прислушивался к отдаленным голосам мамы и больной тети. Потом где-то стукнула дверь и быстрыми шагами вернулась мама с покрасневшим, расстроенным лицом.
— Ужасно, это прямо ужасно! — сказала она, садясь на свое место и машинально, без надобности хватаясь то за вилку, то за салфетку. — Я совсем не думала, что это так некрасиво.
— Я тебя предупреждала, — спокойно возразила тетя Оля, — и заметь, что это бывает только накануне припадка. Зато через два дня ты ее не узнаешь — будет ласковая, милая…
— Дело не в том, что она неласкова, а в этом, этом… — мама досадливо смотрела на меня, — этой откровенности, что ли. Можно самой сойти с ума от ее вопросов… Ужасно, ужасно!
— Мне не следовало тебя пускать к ней сегодня, — сказала тетя Оля.
— А по-моему, вы обе преувеличиваете, — вмешался мой отец, — ничего тут нет ужасного. И доктора, наверное, половину врут. Просто богато одаренная натура, с повышенной чувствительностью, может быть, чуть-чуть ненормальным любопытством… Самое большее — истерия…
И опять разговор по-французски, и при этом испуганные жесты мамы, очевидно описывавшей подробности своего посещения тети Кати, и любопытствующая, хотя и по-прежнему снисходительная улыбка отца, подтрунивавшего над «преувеличениями» женщин.
Из этого разговора я понял только одно: есть в болезни тети Кати, в ее так называемом нервном расстройстве нечто такое, чего не должен знать я, четырнадцатилетний Володя. «Что бы это могло быть, — минутами размышлял я, — что она — дерется, кусается, скандалит?» Но персики, яблоки, дыни и в особенности новый для меня, ужасно любопытный злак кукуруза то и дело отвлекали к себе мое внимание.
Через два дня я увидел тетю Катю. Утром, забравшись в дальнюю аллею бабушкиного сада, я только что нащупал красивую желто-зеленую виноградную кисть, как вдруг рядом со мной раздался незнакомый голос:
— Не надо рвать винограда: он еще совсем незрелый.
Из-за поворота аллеи вышла высокая, худая девушка в белом кисейном платье и тонких туфельках на босу ногу. Я навсегда запомнил цвет ее глаз, подобного которому никогда впоследствии не встречал, — прозрачный, янтарно-желтый, напоминающий стеклянные глаза стрекозы и точно пропитанный золотым солнечным светом. Из глаз этих прямо на меня, на всего меня, на мое лицо, на гимназическую белую курточку, на разорвавшиеся за эти два дня башмаки, лилась совсем до тех пор незнакомая, горячая, любопытствующая ласка. Черные волосы, вероятно начинавшие отрастать после тифа, чуть-чуть свисали локончиками около ушей. Губы, тоже никогда не виданного рисунка, какие-то незакрывающиеся, торопливые, смеющиеся губы — очень красные и влажные — говорили:
— Это и есть мой племянник Володя? Володичка?.. Я тебя совсем позабыла. Тебе было два года, когда я тебя видела в последний раз. Ну-ка, дай на себя посмотреть.
И уже одна рука ее легла мне на голову, а другая на плечо, и, совсем бесцеремонно распоряжаясь мною, отгибая назад мое лицо, проводя тонкими пальцами по моему лбу, по бровям, по губам, хорошенькая тетя стала рассматривать меня, как вещь.
— Бровки черненькие, — говорила она, — глазки веселенькие, ротик красивый. Ничего, славный мальчишечка, только волосы жестковаты, да ушки торчат немножко… А обо мне ты что-нибудь слышал? Знаешь, кто я?
Я не успел ответить на этот вопрос. Послышались озабоченные голоса бегущих к нам тети Оли и моей мамы и веселый, подтрунивающий смех догоняющего их отца.
— Катюша, Катюша, куда ты исчезла? Что случилось? Зачем ты держишь за ухо Володю?
Тетя Катя оставила мою голову, повернулась и сказала спокойно:
— Ничего не случилось. Мы просто познакомились с ним. Чем вы так взволнованы, милые сестрицы?
Она взяла их обеих под руку и пошла с ними тихонько по аллее. Несколько раз она оборачивалась назад и, ласково впиваясь в меня своими янтарными глазами, кивала мне головой. До меня донеслись слова моего отца:
— Вот видите, я вам говорил, mesdames! Никогда не надо преувеличивать опасность.
— Вы ничего не понимаете, Владимир Дмитриевич! — сухо отчеканила тетя Оля.
Я стоял на прежнем месте и тоже ничего не понимал.
За обедом тетя Катя сидела рядом со мной, в том же беленьком платье, но уже в чулках и в других, более закрытых туфлях. Она была такая же, как и все взрослые, не совсем понятные для меня благовоспитанные девицы: красиво двигала руками, осторожно и беззвучно ела суп с ложки, аккуратненько отрезывала ножиком маленькие кусочки жаркого. И обращение с нею тети Оли и всех было самое обыкновенное. Ни разу не начинался французский разговор, и мне даже показалось, что центром общего внимания сделался мой отец, как будто все немножко боялись, что именно он нарушит установившееся равновесие. Ничего, однако, не случилось. Странно ласковые, не имеющие себе подобия в целом мире, глазки тети Кати очень часто останавливались на мне и точно немножко сдерживали лившиеся из них золотистые лучи; но заботилась добрая тетя только о том, чтобы ее сосед-племянничек ел как можно больше и почаще вытирал салфеткой руки и губы.
Когда подали кофе, тетя Оля сказала:
— Сегодня музыка в купеческом саду. Надо бы дорогим гостям вспомнить старину, погулять.
— Ах, купеческий сад, купеческий сад, — мечтательно протянул отец. — Что, капельмейстером все тот же старик Брюнелли?
— Я не могу идти, — объявила мама, — у меня еще платья не выглажены, смялись в чемодане.
— Да и мне нельзя оставить одну нашу бабулиньку, — сказала тетя Оля.
Выяснилось, что идти могут только отец и тетя Катя, да я, пожалуй.
— Конечно, пойдет Володичка, — говорила тетя Катя, гладя меня по голове и приговаривая тихонько, — жесткенькие, жесткенькие, как у волчоночка…
Потом она удалилась к себе на четверть часа вместе с мамой и тетей Олей и вернулась в белой кружевной шляпке, черном открытом платье, с бархаткой и медальоном на шее.
Тетя Оля строго напутствовала отца:
— Сдаю Катюшу на вашу ответственность, Владимир Дмитриевич. Чтобы вы поскорее забыли про существование в русском языке таких обидных слов, как опека и деспотизм.
Отец расшаркался, поцеловал ей руку, и мы пошли в купеческий сад.
Нет, я еще не был влюблен в тетю Катю, я еще не объяснял себе того минутного сладкого столбняка, который овладевал мною, когда она клала мне на голову свою руку или когда, не сдерживаясь, расширив свои светящиеся глаза, впивалась ими прямо в мои зрачки. Она была славная, добрая, веселая тетя Катя и, конечно, не больная (какая же это больная?), но кроме нее существовало в маленьком красивом городке великое множество интересных вещей.
Еще не дошли мы до высокой золоченой решетки сада с непроницаемой узорчатой чернотою листвы, как уже заманчивое, подталкивающее в спину журчанье невидимого, должно быть, громадного фонтана, и водянистый роскошный холодок с запахом гелиотропа и левкоев, и медленный шелест деревьев с бегающими где-то вдали, между стволами, капризными нотками вальса надвинулись на меня какой-то одуряющей пеленой. Вдруг стало темно под сводами столетних дубов, черемух, акаций, каштанов, и высокая девушка в белой кружевной шляпке, идущая под руку с бодро и молодцевато выступающим моим отцом, перестала быть тетей Катей и оказалась какой-то чужой, скромной, усталой гимназисткой, с запавшими куда-то в глубину испуганными глазами. Сад представлялся бесконечно огромным, и было досадно, что нельзя добежать бегом до белеющей издалека водяной пыли фонтана, до музыкантов с серебряными трубами, до открытой веранды ресторана, где сидят офицеры блестящего южного полка.
— Да не беги же так быстро, Владимир, — рассердившись, сказал отец, — иди рядом с тетей с другой стороны.
В конце концов я потерялся в толпе и долгое время сам не замечал этого. Меня разыскали у цветника на музыкальной площадке, и опять с удивлением я увидал какого-то другого отца и другую тетю Катю. Отец очень странно улыбался, и шляпа сидела на нем как-то по-молодому (вспомнился мне его ранний портрет, холостым), а тетя Катя не смотрела ни ему, ни мне в глаза и снятой с руки кружевной перчаткой била себя по коленям.
— Ну-с, молодой человек, — говорил отец, никогда меня раньше не называвший «молодым человеком», — пойдемте шампанское пить.
— Мне нельзя, мне запрещено, — пискливым голоском протянула тетя Катя, — меня дома за это накажут.
— И пусть накажут, — передразнил ее отец, — не так обидно будет Володе, которому тоже запрещено.
И мы, смеясь и болтая, просидели часа полтора на ресторанной веранде и выпили пять бокалов холодного душистого вина, — три бокала отец и по одному мы с тетей Катей. Когда возвращались домой, тетя Катя уже не давала мне убегать вперед и придерживала меня за рукав моей тоненькой курточки. У нее были горячие, немного дрожащие пальцы, и все время она молчала, и я не слышал, что ей говорил на ухо отец.
Ночью мои родители поссорились. Я уже крепко спал в своей хорошенькой комнатке с блестящим крашеным полом, с чучелом совы на шкафу, освещенным луной, и проснулся от громкого разговора по соседству. Отец ходил большими шагами, мать плакала и, вероятно, сидела на кровати.
— Какая дикая, вздорная болтовня! — говорил отец. — Ревновать к скромной, молоденькой девушке, к родной сестре из-за какого-то бокала вина! И как тебе не стыдно, в какое положение ты ставишь меня перед бабулинькой, перед Олей! Наконец, не забывай, пожалуйста, что с нами все время был Володя.
— Откуда ты взял, что это ревность? — перестав плакать от возмущения, крикнула мама. — Зачем ты стараешься свернуть на ревность? Это уже совсем не благородно с твоей стороны! Разве я сказала бы тебе хоть одно слово, если бы ты вздумал пить шампанское с той же Олей, с кем угодно? Ведь пойми же ты, что Катя больная, что всякое лишнее возбуждение может сильно повредить ей.

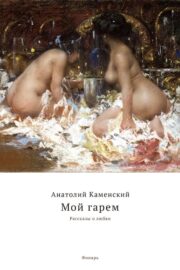
"Мой гарем" отзывы
Отзывы читателей о книге "Мой гарем". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Мой гарем" друзьям в соцсетях.