Кажется, все. А где же поцелуи, где забавные шалости, где волшебный вечерний запах настурций, где встречи в саду, о которых я мечтал по ночам, эта оглядывающаяся, в косынке, головка тети Кати, крадущаяся поступь, испуганные глазки, пальчик, приложенный к губам?.. Ничего, ничего не произошло, не успело произойти, все разрушилось, все погибло в одну незабываемую ночь.
Сначала, сквозь сон, я слышал какую-то суматоху, громкие голоса тети Оли, мамы, отца, потом все это удалилось в конец квартиры. Несколько минут тишины, и я крепко заснул. Но что это? Все как будто спокойно, почему же я лежу на спине, с открытыми глазами, и у меня, как в предчувствии, колотится сердце? Очень далеко, сотрясая весь дом, стукнула дверь — раз, другой и третий, как будто кто-то нарочно распахивал и захлопывал ее. И тут же до меня донесся придушенный расстоянием, вероятно, очень громкий голос тети Кати. Я сразу узнал его, хотя он был совсем незнакомый, исступленный, хриплый и в то же время тягучий, как крик павлина. Казался он одной непрерывной, стонущей нотой, но, прислушавшись, я убедился, что это просто сплошной водопад слов, текущих одно за другим без перерыва. И опять хлопает и хлопает дверь.
Я вскочил с постели, моментально оделся и хотел выбежать вон из «светелочки», но обе двери оказались запертыми снаружи на ключ. Я остолбенел. Почему меня заперли с обеих сторон? Что же такое происходит в другом конце квартиры, и что там делают с моей милой, обожаемой тетей? Воображению моему рисовалось что-то бессмысленное, ужасное. На наш дом напали разбойники, они уже зарезали бабушку, моих родителей, тетю Олю и теперь истязают тетю Катю. Или, может быть, она опрокинула на себя лампу и на ней пылает платье с ног до головы. Я крикнул несколько раз и забарабанил ногами в дверь. Никто не шел. Тогда я распахнул окно и выскочил в сад.
Бабушкин лакей, в пиджаке с поднятым воротником, нес через дворик на черный ход ведро воды. В несколько прыжков я опередил его и бросился в открытую дверь. Никто меня не заметил, и несколько минут я был свидетелем ужасающей, безобразной картины. Тетя Катя, в разорванном платье, с голыми плечами и ногами, с перекошенным от бешеной злобы лицом, отталкивала от своей двери тетю Олю и мою маму, и двух горничных, и еще каких-то женщин и кричала одним духом, скороговоркой, нанизывая слова:
— Уходите, уходите, проклятые тюремщицы, пока я не вырвала вам глаза, не выщипала косы по волоску! У меня хватит силы передушить всех вас! Куда вы спрятали моего ненаглядного, моего возлюбленного? Он был у меня в комнате три дня и три ночи, он целовал меня, и вы, наверное, убили его. Я отомщу, я жестоко отомщу вам за него, проклятые старые ведьмы! Вам мало ваших любовников, которые спрятаны у вас под всеми кроватями, во всех шкафах, вам захотелось моего. Отдайте мне его сейчас, отдайте, отдайте!
И еще, и еще, бесконечная цепь обвинений, самых чудовищных, фантастических, циничных. Движения ее были разнузданны, как у пьяной проститутки, и срывавшиеся с ее уст ругательства опалили лица всех женщин стыдом.
— Владимир! Когда ты проснулся? Зачем ты здесь? — раздался у меня над ухом гневный голос отца. — Кто посмел отпереть твою комнату и пустить тебя сюда?!
Но я уже рыдал, уткнувшись в угол лицом, и почти не слышал, что было дальше, как овладели тетей Катей, как вошли в ее комнату, как лакей просунул в дверь звонкое ведро с водой. Тотчас же меня увезли в гостиницу, а утром, перед нашим отъездом на вокзал, приходила тетя Оля, долго совещалась с моими родителями в запертом соседнем номере, и, когда вышла оттуда, отец несколько раз поцеловал ей руку. У него было серьезное, очень печальное лицо. На мои вопросы не отвечали. Я узнал только самое краткое и самое страшное, что тетю Катю ночью же отправили в карете в сумасшедший дом.
Время залечило мою первую сердечную рану, и память запрятала в один из своих многочисленных, покорно открывающихся по первому требованию сундучков грустные подробности моего знакомства с тетей Катей.
Теперь, через двадцать лет, не зная даже, жива ли она, я иногда спрашиваю судьбу, пославшую ей этот ужасный, ненасытимый, неутолимый недуг, сосредоточившую в ее сердце тысячу огней, в глазах тысячу вожделений, в ее теле тысячу судорог, обокравшую, быть может для равновесия, множество других, равнодушных, навсегда замороженных дев, — спрашиваю судьбу, справедлива ли она? За что погибла эта молодость, чистота, красота? Почему из чаши любви, оскверненной столькими нечистыми устами, не было дано напиться этим благоговейным, трепещущим устам?
Впрочем, не все ли мне равно? Пусть лениво захлопнется сундучок. Память не привыкла останавливаться слишком долго на том, что было двадцать лет тому назад. Да и останавливается она довольно редко: летом, в июле, когда вдруг вздумается нарвать букетик настурций и осторожно приблизить его к лицу. Очень и очень осторожно, ибо я хорошо знаю, что у настурции два запаха — один бесхитростный, наивный, удивленный, а другой — совсем не хороший, напоминающий собою перец.
Зверинец
Столоначальник Антон Герасимович, хмурый, давно не бритый, обычно молчаливый, вдруг оживился и сказал:
— Вы, аристократы, обедаете не раньше семи часов, а теперь всего четверть шестого. Проводите меня. Я живу на Петербургской стороне.
Одетый с иголочки Сережа Лютиков сконфузился и шаркнул ногой.
— Виноват, Антон Герасимович, мне еще нужно побывать кое-где до обеда.
— Ладно, успеете, — притворно строго произнес столоначальник, — прежде всего надо угождать начальству. Как вы думаете? А?
Сереже Лютикову страшно хотелось пофланировать по Морской и кстати купить себе модный турецкий галстук, но он ничего не сумел ответить Антону Герасимовичу и пошел рядом.
— Хорошая погода, — говорил Антон Герасимович каким-то странным, не то ворчливым, не то ироническим тоном. — Весна, черт бы ее побрал совсем. Природа ликует, птички поют, березовые почки благоухают… А столоначальники ходят в рваных пальто. Вы, наверное, влюблены, Лютиков, и торопитесь на свидание?.. Так вы можете наплевать на меня, я и сам до дому добреду. Я хоть и считаюсь вашим начальством, но рожа у меня небритая, пальтишко старомодное, и по своему обличью я вам даже в камердинеры не гожусь. Ведь вы — богач, бывший лицеист, и у вас, наверное, есть камердинер, который одевается получше, чем я.
Беспомощно улыбаясь и обнаруживая на щеках красивые, кокетливые ямочки, Сережа Лютиков уже не думал ни о прогулке, ни о турецком галстуке, ни о вкусном обеде и, как прикованный, шел за Антоном Герасимовичем через Николаевский мост. Непривычные, приятельски шутливые интонации столоначальника, его бесконечные оговорки: «Может быть, вы уж устали со мной идти?», «Может быть, вам надоело меня слушать?» — все это немного льстило Сереже, но в то же время его шокировали и приплюснутая форменная фуражка Антона Герасимовича, и его действительно потрепанное пальто. Да и по Васильевскому острову он шел пешком чуть ли не в первый раз. «Хорошо бы вскочить на извозчика и удрать», — думалось ему, но Антон Герасимович все в той же непонятно иронической манере повел длинную речь о политике, о службе, о литературе, о студенческих годах и больше всего — о самом себе. Благовоспитанному Сереже Лютикову, так внезапно удостоившемуся интимных излияний ближайшего непосредственного начальства, ничего не оставалось делать, как покориться, слушать и вежливо кивать головой.
— Зайдем-ка на минуту сюда, — сказал Антон Герасимович, неожиданно шмыгнув в распахнутую дверь плохенького ресторана. — Так вот я говорю, — продолжал он, не убавляя шага и вплотную подходя к буфетной стойке, — налейте-ка нам по рюмочке… Не пьете? Очень странно… Ну, я один. Ваше здоровье!.. Так я и говорю: что такое весна, любовь, воробушки разные, когда такие люди, как ваш покорный слуга, с самых юных лет думают только об одном — как бы не подохнуть с голоду. Оно конечно, и я писал когда-то стишонки, в комедиях игрывал, романсы распевал. У меня и посейчас сохранился этакий потрясающий тенор ди-форца. Может быть, выпьете? Ну, а я еще одну рюмочку пропущу. Как же, как же, вот буфетчик мой голос очень хорошо знает. Иногда по старой привычке такое «до» заковыряешь, что со всех сторон сбегаются лакеи и умоляют: «Пощадите, Антон Герасимович!» Ведь правда?
— С кем греха не бывает, — уклончиво отвечал буфетчик.
Вышли на улицу, и через несколько минут Антон Герасимович снова шмыгнул в пивную, потом, уже на Петербургской стороне, опять в ресторан, и, когда Сережа Лютиков, проводив начальство до самого дома, хотел было расшаркаться и удрать, начальство это уже без всяких церемоний схватило его за оба рукава.
— Нет, уж это дудки-с. Не пущу. Страдать — так до конца. Ведь я, дорогой мой, не просто Антон Герасимович, я, сударь мой, тип. Будьте любезны изучить меня как следует, во всей скорлупе. Да вы и не раскаетесь. Хотите посмотреть зверинец? — отрывисто спросил он.
— Какой зверинец? — растерянно переспросил Сережа.
— Настоящий, форменный зверинец, мою, так сказать, семью. Кроме меня самого, увидите еще несколько любопытных экземпляров: жену мою Валентину, кухарку Досю, чижика, морских свинок, ежей… Много зверья всякого. Так и набросятся на вас.
В темной передней пахло жареной дичью и духами. Чьи-то невидимые, обнаженные до плеч руки протянулись и властно сняли с Сережи Лютикова пальто, а за полуоткрытой дверью в гостиную, в розоватых апрельских сумерках, двигался расплывчатый женский силуэт.
— Отчего так поздно, Антоша? — слышался оттуда низкий, медлительный и в то же время как будто нетерпеливый голос. — С кем это ты пришел?.. И хоть бы предупредил. Ведь мне вас двоих, пожалуй, не накормить. Да входите же. Дося, зажги лампу в передней. Ну, наконец-то.
Антон Герасимович легонько подтолкнул Сережу Лютикова в спину, и, переступив порог, Сережа увидел молодую женщину какой-то необычной красоты, полуодетую, полупричесанную, странно улыбающуюся, не похожую ни на одну из женщин, виденных им раньше.
— Вот это и есть моя жена Валентина — экземпляр зверинца номер первый, — говорил Антон Герасимович, — не правда ли, забавный контраст? Моя, изволите ли видеть, небритая и в достаточной степени пьяная рожа — и эдакое божество… Ну, дай-ка мордочку поцеловать…
— Ах, Боже мой, да я и не заметила, что ты опять такой отвратительный, ужасный… Как же тебе не стыдно приводить человека в первый раз и быть таким?.. Отойди, я тебя не могу видеть.
Она резко отвернулась от мужа, и Сережа Лютиков, к своему удивлению, вместо брезгливой гримасы на ее лице вдруг увидал устремленные на себя черные глаза, полные откровенного любопытства и странной лени, даже не глаза, а какие-то омуты, какую-то пустоту глаз. Эти глаза и губы, полуоткрытые, жарко оттеняющие белизну зубов, и широко обнаженные воротником капота плечи, и медлительный голос, притворно скрывающий какую-то явную, настойчивую мысль, — сразу взяли Сережу в плен.
— Какой красивый, — говорила Валентина, — как хорошо одет. Зачем ты его привел, Антон? Ах, я ужасно рада. Вот не думала, что у такого замарашки, как мой муж, могут быть такие знакомые. И ты еще лезешь целоваться. Ах, Боже мой, да идите же обедать. Дося! Зажигай поскорее лампы.
Появилась Дося в кофточке с чересчур короткими рукавами и маленьком кокетливом передничке — тоже совсем молоденькая и совсем не похожая на прислугу. У нее была великолепная гладкая прическа, однотонное, как у статуи, и чуть-чуть смуглое лицо, на котором немного дико и резко алел большой кроваво-красный рот и так же дико зеленели раскосые изумрудные глаза. И глаза эти жадно уставились на Сережу. Она стала на пороге, заложив в кармашки передника свои голые точеные руки, и точно ждала чего-то.
— Ну, чего глаза выпучила, не смей смотреть! — говорила хозяйка. — Это не твой гость, а мой. Зажги лампы и подавай суп. Ну, ты, кажется, слышала? Убирайся, — притворно строго и как-то бесстыдно крикнула она. — А ты бы, Антоша, пошел в спальню и переоделся. Терпеть не могу тебя в сюртуке. Надень кофточку — это я его утреннюю тужурку так зову, — ну, иди же. Сам привел и уже ревнуешь. Чем же я виновата, что он мне нравится!
— Понимаете, вы мне страшно нравитесь, — продолжала она, когда Антон Герасимович ушел переодеваться. — Не смотрите на меня, как на сумасшедшую. Вы, вероятно, светский человек и не должны теряться ни в каком обществе. Ну-с, давайте сядемте, и я вас буду занимать, как в хороших домах. Доська! Ты зажгла лампу и опять торчишь здесь! Уйди же, наконец, в кухню.
Сережа Лютиков, не успевавший следить за бесконечной сменой улыбок, интонаций и жестов Валентины, за целым потоком неожиданных, огорошивающих и в то же время странно дурманящих слов, уже просто по привычке ходить, сидеть и говорить в обществе, спокойно подвинул стул, уселся, положил ногу на ногу и стал подавать реплики и отвечать на вопросы.

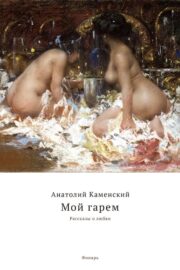
"Мой гарем" отзывы
Отзывы читателей о книге "Мой гарем". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Мой гарем" друзьям в соцсетях.