— Не грубо, но спрошу, и даже в том же порядке… Ну… как вас зовут?
— Зовут Флорой. Красивое имя? Георгиевной. Дальше? Масса банальщины — скучающая женщина, загадочная натура, но, не бойтесь, не психопатка. Налейте еще вина…
Златопольский принес полные бокалы и сел поближе, что бы лучше видеть ее лицо.
— Продолжим допрос, — сказал он, — сколько вам лет?
— Честное слово, двадцать… Ну, торопитесь же: что я делаю, где я живу, номер квартиры, номер телефона?..
— А разве это действительно так спешно? — дурачился Златопольский ей в тон.
— Какую чепуху мы говорим… Знаете что: эти очаровательные девицы сейчас выцарапают мне глаза. Уйдемте отсюда куда-нибудь.
В гостиных, в буфете на Златопольского и его даму смотрели во все глаза, поэту приходилось раскланиваться, мельком отвечать на вопросы, и от этого он больше слушал Флору, чем говорил. Слушая, он всматривался в нее, и та подчеркнутая в выражении ее глаз и даже в ее костюме простота, которая сначала облегчила знакомство с нею, теперь начинала вносить какую-то путаницу в его догадки. Не курсистка, не актриса, не скучающая барынька, не содержанка. Очень начитанна, подолгу живала за границей, в Лондоне и даже в Нью-Йорке, не замужем, вероятно, потому что нет обручального кольца, но и не девушка очевидно… Почему очевидно?
— Однако, как вы пристально смотрите! — говорила она. — Напрасно. Вам никогда не угадать.
— И не надо, — отвечал поэт, — если вас трудно разгадать сейчас, в настоящем, то, может быть, вы — женщина будущего?..
— Или далекого прошедшего… Это, пожалуй, вернее… Я — Клеопатра, приказывающая наутро рубить головы своим любовникам… Громко сказано?.. Ха-ха-ха!..
Гостиная уже давно опустела, началось последнее отделение концерта. Как-то неожиданно оборвалась тонкая, беспечная, болтливая, ни к чему не обязывающая ни Златопольского, ни молодую женщину нить. И ни с того, ни с сего, заметив в руках Флоры бархатную черную сумочку, Златопольский до тоскливости реально припомнил сегодняшний голод, последний двугривенный, сюртук с чужого плеча, узкий воротничок. Из зала доносилась музыка виолончели. Кто-то хмурый, напоминающий собою венгерца с большими усами, сдержанно, отчетливо, сухо говорил звуками какие-то любовные слова, говорил о тайной, давнишней, не ищущей взаимности любви. Этот образ венгерца, и почему-то именно венгерца, возникал в мозгу Златопольского каждый раз, когда кто-нибудь исполнял на виолончели этот странный романс.
— Какой смычок! Боже, какой у него удивительный, говорящий смычок! — повторял он, весь холодея при новом воспоминании о своей беспомощной, всеубивающей нищете…
— Клеопатра, Клеопатра, — уже совсем механически говорил он, оглядываясь по сторонам, и, вдруг взяв ее за руку, стал тянуть ее к себе. — У вас каменные глаза. Я никогда не видел таких непрозрачных глаз.
— Для чего вы посмотрели кругом? — спрашивала она, сопротивляясь. — Неужели вы так, сразу, хотите меня поцеловать?
— Какие вы странные вопросы задаете, — медленно говорил Златопольский, — какие у вас губы…
Флора высвободила руку, повертела сумочкой, встала.
— Теперь замолчите. Поедем, — сказала она и быстро, не оборачиваясь, пошла вперед.
Он оделся поспешно, отдал двугривенный швейцару. С минуты на минуту нужно быть готовым к отступлению, лжи, позорному бегству, но как не хочется об этом думать! Еще есть у него мгновения — одно, другое, третье. А вдруг совершится какое-нибудь чудо… Женщина уже нравилась ему безумно. В узком бархатном пальто с серым воротником, в серой пушистой шапочке с блестящим верхом из серебряной парчи, она ждала его у дверей и, увидав его, тотчас прошла на улицу вперед.
— У меня автомобиль, — говорила она, все еще не глядя на него, — кликните Эдуарда с Моховой улицы.
Златопольский прошел несколько шагов; позвал; автомобиль подъехал. Еще и еще можно не думать, ничего не бояться. Какое-то инстинктивное чувство джентльменского мужского самолюбия подсказывало ему, что пока все обстоит прилично и безопасно.
— Сначала прямо, потом по Каменноостровскому, — крикнула Флора шоферу, становясь на подножку и увлекая Златопольского за собою.
От муфты, шапочки, от мягкой кожаной обивки автомобиля пахло все теми же незнакомыми редкостными духами. Воздушно качались и откидывались куда-то навзничь сиденья кресел, автомобиль летел, точно не чувствуя под собою колес, в каретку врывались призрачные электрические светотени, и от всего этого Златопольскому казалось еще легче ни о чем не думать, надеяться на чудо и ждать.
— Я принадлежу к секте откровенных, — говорила Флора совсем спокойным тоном, — есть такая в Петербурге маленькая и страшно замкнутая секта. Я всегда делаю только то, что хочу, и всегда говорю только правду. Я вам сказала, что я Клеопатра. И это правда. Завтра утром у вас действительно будет отрублена голова. То есть мы уже не будем знакомы. Нравится вам это?.. Вы, как избалованный человек, привыкли, чтобы вам надоедали письмами, напоминаниями, звонками по телефону… А этого как раз и не случится. Я красивая, смелая, сумасшедшая, и меня стоило бы любить дольше, чем одну ночь. Мысль, что вы, может быть, будете страдать от разлуки со мною, заранее меня радует. Молчите, молчите, милый поэт, не нужно вам ничего говорить. Я знаю наизусть столько ваших стихов… И вот я хочу сегодня увенчать ваш талант… О, мое тело достойно вашего таланта… О, вы убедитесь в этом…
Флора говорила, и Златопольский видел только освещаемую скользящими вспышками уличного света нижнюю часть ее лица, ее темные губы и сияющие жемчужины в ушах.
Как хорошо, какая изумительная, редкая, долгожданная встреча!
— Да, — вдруг прервала себя она, — милый! Одну минуточку прозы, только одну минуточку. Ко мне нельзя: ни мой адрес, ни мой телефон не должны быть вам известны. Мы сначала выпьем шампанского в ресторане, а потом поедем к вам. Хорошо?
— Нет, нет! — в ужасе закричал Златопольский и точно упал с неба на землю.
— Что с вами? — тоже вскрикнула Флора.
«Спасаться! Спасаться! Скорее начинать лгать! Господи, помоги! Да неужели нет никакого выхода!» — стучало у него в мозгу. К нему нельзя: уже давно спит пьяный товарищ-беллетрист, с которым они пополам нанимают комнату. На ресторан нет денег. На ее деньги — ни за что! О, проклятая нищета! Бежать, бежать, но хотя бы маленькую отсрочку!
Он сделал нечеловеческое усилие над собой и произнес почти спокойно:
— Подождите, побудем еще немного здесь.
— Хотите, я скажу вам все, что вы сейчас думаете, — не давая ему опомниться, говорила Флора, — все, что вы можете думать… Во-первых, вы можете не любить ресторанов, во-вторых, вы можете их любить, но у вас… случайно нет с собой денег. Вы можете жить красиво и не красиво, у вас может быть грубая мещанка жена, или, если вы холосты, хозяйка может не позволять вам привозить к себе так поздно женщин… Но ведь это же все ничтожнейшие мелочи… Ничтожнейшие пустяки… Целуйте! — вдруг капризно приказала она, приникая к его губам щекою и жемчужинкою в ухе.
И он, опять забывшись, стал целовать сначала щеку, шею, жемчужину, а потом губы. Мгновение, и она дернула за какую-то ленту. Автомобиль остановился. Резкий, дымчато-розовый свет ворвался в карету от двух круглых, качающихся от ветра фонарей. Стояли у подъезда дальнего фешенебельного ресторана.
— Нет, нет, ни за что! — опять крикнул Златопольский.
— Милый, но ведь это настоящий каприз. Вы лишаете меня возможности выпить вина.
— Я не хочу вина.
— Вы можете не пить.
— Я все равно не войду в ресторан…
— Милый, ну, на минуточку, ну, пожалуйста, ведь я понимаю, — продолжала она весело и нежно, — я все понимаю, но неужели женщина никогда не может быть настоящим товарищем?.. Ах, Боже мой! Я сейчас докажу вам…
Она дернула ту же ленту два раза, и автомобиль тихонько двинулся вперед.
У Златопольского уже созрело решение. Посмотреть, посмотреть еще раз, запечатлеть в памяти навсегда эти глаза и эти губы. Он посмотрел. Взять и поцеловать и сжать крепко, до боли, эти маленькие руки… Жал мучительно, долго. «Выхода нет? — спрашивал он себя. — Нет. Ты не можешь победить этого, перешагнуть через это? Нет, нет! — ответил он себе злобно, жестко, беспощадно. — Тогда становись в позу, лги!»
— Я — поэт, — сказал он гордо, отнимая у нее свои руки и отодвигаясь. — Вы не отрубите завтра моей головы… Вы ничего не знаете, и напрасно вам кажется, что вы умеете говорить правду… Вы не умеете говорить ее…
Автомобиль катился тихонько, точно прислушиваясь к медленному темпу его слов.
— Теперь вот что, — холодно и властно продолжал он, чувствуя в то же время, как его сердце сжимается от тоски и горя, — теперь вот что: остановите автомобиль. — Он сделал паузу, автомобиль остановился. — Я сейчас выйду и приказываю вам — слышите! — приказываю мчаться вперед полным ходом две или три минуты. Я знаю, что вы все это сделаете. Я буду любить вас дольше, чем одну ночь. Можете сказать мне на прощанье два слова. Златопольский открыл дверцу, вышел и, повернувшись, поставил на подножку ногу. Флора выглянула наружу. Глаза и губы ее смеялись несколько мгновений, потом лицо сделалось строгим.
— Да, это красиво! — просто сказала она и тотчас захлопнула дверь.
Автомобиль бешено помчался.
Златопольский подождал, пока он исчез из глаз, постоял. Мучительно замирало сердце. Подняв воротник, надвинув шапку, он свернул в узенькую боковую улицу, проплутал несколько кварталов, сжал мысли, сжал сердце, дал себе слово ни о чем не думать и не вспоминать до завтра и быстрым военным шагом пошел домой. До дому было верст восемь. Шел он полтора часа.
Умная книга
— Пойдите сюда.
— Ни за что.
— Ну, если гора не идет к Магомету…
— Не смейте, не смейте. Я вас ударю.
— Но ведь это же глупо, наконец. Почему?
— Я вам сказала. Потому что я невеста.
— Это для меня не объяснение. Я не претендую ни на какое соперничество с вашим будущим мужем.
— Чего же вы от меня хотите?
— Я хочу, чтобы вы меня поняли. Брак, семейная жизнь, самая искренняя любовь супругов ничего не имеют общего с той чудесной областью, куда я зову вас.
— Что же это за область?
— Область поверхностных ощущений.
— Хорошенькое название, отчего бы вам не поговорить на эту тему с моим женихом? Может быть, вы убедите его и он разрешит мне.
— Мне нет никакого дела до мнения вашего жениха. Я надеюсь убедить вас сам. Пойдите сюда.
— Мне и здесь хорошо. Говорите.
— Издали это гораздо труднее. Если один человек хочет убедить другого, то он должен держать его, по крайней мере, за руку.
— По крайней мере?.. Поэтому вы и переходите все время эту меру.
— Вы упрямы как черт. Послушайте: я вам готов поклясться, что вы притворяетесь. Вы бежите от меня не потому, что моя близость вам неприятна, а потому, что у вас извращенное понятие о самых красивых и самых нравственных — слышите ли — самых нравственных вещах.
— Вот как!
— Да, да. Мораль обнаглела до того, что готова совать свой нос в какую угодно запрещенную для нее область. Понимаете ли вы, что область ощущений автономна? Ведь я говорю вам не о чувствах, которые имеют свое развитие, свою логику, свою религию, наконец, а об ощущениях, которые могут дать человеку радость в ее первоначальном и, я сказал бы, чистейшем и благороднейшем виде.
— Это парадоксы. То, что вы так заманчиво описываете, и есть разврат. Вот эти самые вещи люди давным-давно условились называть развратом. Вы ничего нового не сказали.
— Неправда, сказал. Я дал вам платформу, вы понимаете, платформу, на которую вы можете взобраться раз навсегда незыблемо и гордо и с которой можете крикнуть каждому, начиная с вашего будущего мужа: «Прочь отсюда!» Кстати, я до сих пор не знаю. Вы его любите?
— Как вам сказать… Он мне симпатичен.
— Симпатичен? А коленки подгибаются, в глазах зеленеет?..
— Что такое? Какие коленки?
— Ваши коленки. Когда встречаетесь, когда он дотрагивается до вас.
— Нет.
— Ура, ура!.. Значит, вы совершенно свободны. Значит, об измене жениху не может быть и речи. Он не дает вам ощущений — ergo, вы имеете право брать их от других. Послушайте, не удирайте от меня, дайте же, наконец, вашу руку… Послушайте. Бывает так, что люди не могут жить друг без друга, что душа их полна безграничного взаимного понимания, взаимной заботы… Что эта двойная душа неделима без смертельной опасности для каждой ее половины. Но случается иногда с одной из этих половинок, что какая-нибудь голоногая прачка на берегу пруда или какой-нибудь румынский музыкантишка с неприлично стеклянным взглядом вдруг толкает ее в бездну… Сладкую головокружительную бездну. Я никогда не поверю, чтобы вы не чувствовали над собою временами дурманящих крылышек, крылышек Эрота… Честнейшего и правдивейшего из всех выдуманных человеком божков. Хотя бы тот же Леонид Иваныч… Ведь он очень нравился вам до вашей помолвки с женихом.

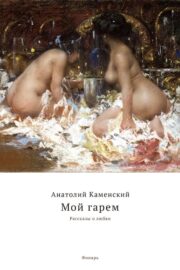
"Мой гарем" отзывы
Отзывы читателей о книге "Мой гарем". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Мой гарем" друзьям в соцсетях.