Беатрис была холодна как лед. Обязательная, терпеливая, «хорошая жена» в своих собственных глазах. Она прекрасно вела домашнее хозяйство, была вежлива и добра к нему, никогда не обманывала, не кричала и тем более не изменяла — она была истинной леди. Но, как и Пакетом, он хотел знать, любила ли она кого-нибудь, кроме Джорджа, ведь даже с сыном она соблюдала приличествующую дистанцию. Как бы ни был Джордж похож на нее, он не мог ждать большей теплоты. Карлтон и Пакстон, как ни старайся, не получили бы и этого. — Она любит тебя, Пакс.
Как только отец произнес это, Пакстон поняла, что это ложь ради ее спокойствия. Она еще не знала, на что способна любящая женщина; Карлтон Эндрюз имел об этом куда более ясное представление.
— Я люблю тебя, папа. — Она бросилась к нему на шею, отметая все раздумья и сомнения. Она ничего не скрывала от него.
Отец рассмеялся, потому что дочь чуть не столкнула его с кресла.
— Эй, я сейчас окажусь на полу твоими стараниями! — Он давно мечтал, чтобы она поступила в Рэдклифф[2], и, обнимая ее, представлял красивой девушкой, своей гордостью на склоне лет.
Она росла именно такой дочерью, о которой он мечтал: любящей, душевной, заботливой. Пакстон была очень похожа на него.
А потом он ушел, и Пакстон осталась одна, правда, у нее еще была Квинни. Она усердно училась и читала книги все свободное время. Иногда Пакстон писала письма отцу, как будто он путешествовал и она могла посылать ему письма почтой, только вот ответы не приходили. Некоторые она действительно отправляла, остальные просто носила с собой. Сама возможность писать очень помогала ей в одиночестве. Так она продолжала разговор с отцом, тем более что в какой-то момент совсем перестала разговаривать с домашними.
Мать, казалось, вздрагивала от самого звука ее голоса и как бы отталкивала от себя все то, что говорила Пакстон. Временами Пакси чувствовала себя пришелицей с далекой планеты. С матерью они были различны во всем, и Джордж тоже был из другого лагеря. Он убеждал Пакстон понять мать, вести себя «прилично», быть рассудительней и помнить, кто она такая. Это ее окончательно ставило в тупик. «Кто она такая»? Кого ей слушать: свое сердце или их убеждения? В глубине души у нее не было сомнений. Она знала, что отцовская безграничная любовь к миру — единственный приемлемый путь и для нее тоже. К тому времени, когда Джордж закончил стажировку в «Грейд мемориал», Пакси исполнилось шестнадцать и она решила уехать на Север, чтобы поступить в Рэдклифф.
Мать хотела, чтобы она поступала в школу Агнесс Скотт, или Мэри Болдоуин, или в «Сладкий шиповник», где училась сама, или, в крайнем случае, к Брин Мавр. Желание Пакстон поступить в Рэдклифф казалось ей просто смешным:
— Чего ради тебе ехать в северные школы? Здесь у нас есть все, что нужно. Посмотри на своего брата. Он мог поступить в любую школу страны, но остался здесь, в Джорджии.
При этих словах Пакстон чувствовала приступ клаустрофобии. Она желала вырваться из круга знакомых матери, их идей, рассуждений об «ужасах десегрегации». Проблема гражданских прав — вот что волновало Пакстон, и она обсуждала это с друзьями в школе и вполголоса с Квинни на кухне. Няня придерживалась старых взглядов, считала, что черные должны оставаться там, откуда они родом. Мысль о смешении и уравнивании в правах белых и черных пугала Квинни, только ее дети или внуки могли думать об изменениях в этой области. Пакстон доказывала, что понятия, внушенные ей с самого детства, были не правильными, и писала о реформе в школьных сочинениях.
Отец разделил бы ее убеждения. Пакстон старалась не говорить на эту тему с родными, но осенью ей пришлось выбирать колледж. Она написала в полдюжины северных школ и в две в Калифорнии: Вассар, Веллесли, Рэдклифф, Смит, Вест, Станфорд и Беркли. Она не хотела учиться в школе для девочек, Рэдклифф был ее настоящей мечтой. Она обратилась в западные школы, потому что разум подсказывал сделать это. Но в конце концов, чтобы успокоить мать, написала и в «Сладкий шиповник». Подруги матери постоянно говорили, как будет хорошо, когда она поступит туда, — будто вопрос о ее поступлении давно уже был решен.
Сейчас она не могла об этом думать. Взгляд упал на часы.
Было всего два часа — полчаса прошло с тех пор, как стреляли в президента Кеннеди, и десять минут, как они смотрят телевизор в ожидании новостей, пока весь народ молится, а его семья чувствует то, что Пакстон испытывала шесть лет назад.
В 2.01 Уолтер Кронкайт посмотрел прямо в камеру и с искаженным лицом сказал американцам, что президент умер. По маленькой комнатке в школе в Саванне сначала пронесся глухой вздох, а потом рыдания. Плакали все; учителя и ученики, обнявшись, бессвязно спрашивали друг друга, как это могло произойти. Уолтер Кронкайт продолжал вести передачу и брал интервью у врачей. Пакстон показалось, что она словно погружается в воду: все вокруг замедлялось и отдалялось — плачущие люди, экран телевизора. Она почувствовала на щеке слезу, потом возникло ощущение духоты, как если бы кто-то выкачал весь воздух, и теперь она никак не могла глубоко вдохнуть. Боль и тоска навалились на нее — она как будто снова теряла отца. Ему было пятьдесят семь. Джону Кеннеди всего сорок шесть, оба ушли в расцвете сил, полные идей и жажды жизни, у обоих были семьи и по двое детей, очень их любивших. Джона Кеннеди оплакивал весь мир, Карлтона Эндрюза — только его близкие. Для Пакстон сейчас это не имело значения: она знала, что чувствовали его дети — ужасающую тоску, утрату и гнев. Это было так больно, так несправедливо! Кто мог совершить подобное?
Как слепая, она, не сказав никому ни слова, вышла из школы, не заметив, как пробежала мимо домов на Хаберсхам. Очнулась, лишь войдя в прихожую, с хлопком двери, волосы ее растрепались от бега, и в этот момент она была очень похожа на отца в детстве — те же белые кудри, огромные зеленые глаза, в которых всегда стоял вопрос. Бросив сумку с книгами, вся в слезах, она поспешила на поиски Квинни.
Квинни напевала что-то на кухне, и было видно, что готовка доставляет ей удовольствие. Начищенная до блеска посуда в особом порядке развешана над плитой. Соблазнительный запах выпечки разносился по дому. Квинни удивленно обернулась, заметив рядом Пакстон с бледным лицом и полными слез глазами.
Девочка была просто олицетворением горя.
— Что случилось, детка?. — забеспокоилась няня и, бросив все, подошла к девочке, которую вырастила и любила больше всех на свете.
— Я… — Пакстон потеряла дар речи. Она не знала, с чего начать. — Ты смотрела сегодня телевизор?
Квинни хотела было вымыть руки, но пожала плечами и посмотрела непонимающе на Пакси.
— Нет, твоя мать сдала кухонный телевизор в ремонт, он сломался неделю назад. Я никогда не смотрю телевизор в гостиной. — Она совсем растерялась. — А что? Что-то произошло в Саванне?.. Или с мистером Джорджем, с миссис Эндрюз?
Или с детьми… — Квинни подумала о многом. «Может быть, это одна из этих ужасных демонстраций?» Но она никак не могла предположить ответа Пакстон.
— В президента Кеннеди стреляли.
— О моя земля. — Квинни села на ближайший стул в состоянии, близком к шоку. В глазах ее был молчаливый вопрос.
— Он умер. — Пакстон опять начала рыдать, уткнувшись в плечо Квинни.
Это ужасное чувство утраты, растерянности перед горем легче пережить вместе, и они вдвоем плакали о человеке, которого никогда в жизни не видели, кроме как по телевизору… Он был так молод, так знаменит. За что? Что за ненависть двигала убийцами? Ради чего они это сделали? И почему именно его?
Его, молодого мужчину с двумя маленькими детьми и красавицей женой, полного сил и надежд переустроить страну, помочь людям. Пакси плакала на руках Квинни, и та раскачивала ее, как маленькую, и сама плакала о мужчине, которого не знала, но верила, что он — хороший человек.
— Это правда, детка? Я никак не могу поверить. Почему же это случилось? Уже знают, кто стрелял?
— Вряд ли.
Но когда они пришли в гостиную и включили телевизор, там были свежие новости. Мужчина по имени Ли Харви Освальд убил полицейского, пытавшегося его задержать в помещении книгохранилища, откуда в половине второго были сделаны роковые выстрелы по кортежу президента. Освальд был арестован по подозрению в убийстве президента, полицейского и агента секретной службы. Кроме того, им был ранен губернатор Техаса Джон Кониэли, но, слава Богу, не смертельно. Тело президента уже перевозили в Нью-Йорк в самолете Военно-воздушных сил США. На борту были также его вдова, новый президент и миссис. Джонсон, его жена. Ранее поступило сообщение, что Джонсон тоже ранен, но это оказалось слухом. Народ был в шоке, Пакстон и Квинни молча стояли у телевизора, все еще не веря услышанному. Так их и застала, войдя в комнату, мать Пакстон, вернувшаяся от своего парикмахера, которого посещала по утрам в пятницу. Миссис Эндрюз услышала новость в парикмахерской и теперь присоединилась к дочери и Квинни в мрачном настроении. Беатрис Эндрюз ополаскивала волосы, когда пришло первое сообщение о трагедии. Несмотря на шок, она Осталась закончить прическу и даже уговорила одну из девушек сделать ей маникюр, хотя многие мастера не смогли продолжать работу, а некоторые женщины ушли из парикмахерской с мокрыми волосами. Все были в слезах. Но миссис Эндрюз не хотела нарушить свои планы — на этот уик-энд перед Днем Благодарения у нее было много дел. Бридж-клуб давал в воскресенье обед. Ей и в голову не могло прийти, что все увеселительные мероприятия будут отложены в связи с трауром. Это как-то не доходило до нее — она пришла немного расстроенная, только и всего. Ей казалось, что дамы, убежавшие домой с незаконченными прическами, несколько преувеличивали свои переживания. Она-то знала, что такое горе, потеряв собственного мужа, но расстраиваться по поводу убийства общественного деятеля ей казалось излишним. Но остальные чувствовали такую боль от этой потери, как будто каждый был другом убитого президента. Он принес надежду многим, отдал свою энергию, чтобы люди обрели «американскую мечту». Его жену все воспринимали как сказочную принцессу.
Беатрис Эндрюз сначала стояла позади дочери и няни, затем села посмотреть, как Линдон Джонсон принимает присягу в штабе Военно-воздушных сил. При этом она не пригласила присесть Квинни. Камера показывала то судью Хьюза, распоряжающегося церемониалом принятия присяги, то Жаклин Кеннеди, стоящую позади него, и все видели, что она все еще в том розовом костюме, в котором была в момент убийства, и на нем остались следы крови. Ее лицо потускнело от тоски, и, казалось, она не видела, как Линдон Джонсон становился президентом. Пакстон медленно опустилась в кресло рядом с матерью. Слезы текли по ее щекам, она смотрела на экран, не в силах поверить в происходящее.
— Как он мог сделать это? — пробормотала Пакстон.
Квинни погладила ее по голове и, плача, ушла на кухню.
— Я не знаю, Пакстон. Говорят о заговоре. Но я не думаю, что кто-то сейчас в состоянии объяснить, почему это произошло. Я соболезную миссис Кеннеди и детям. Это тяжелый удар для них.
Слова матери снова заставили Пакстон вернуться к мыслям об отце. Хотя отец и не был убит, но умер так внезапно, что она до сих пор не привыкла к его отсутствию и, может быть, никогда не привыкнет. Конечно же, дети президента долго будут чувствовать утрату…
— Сейчас врем" чудовищной неразберихи, — продолжала мать, — все эти расовые беспорядки, реформы, которые он затеял… Возможно, это цена, которую он в конце концов заплатил. — Беатрис смотрела прямо перед собой, когда выключала телевизор, Пакстон попыталась заглянуть матери в глаза, желая узнать, правильно ли она поняла ее.
— Ты думаешь, это из-за гражданских прав? Ты думаешь, в них причина? — Пакстон вдруг разозлилась. Почему мать так думает? Она хочет все вернуть в средневековье. Почему они всю жизнь должны жить на Юге, если родились в Саванне?
— Я не утверждаю, что это причина, я говорю «возможно».
Нельзя перевернуть всю страну вверх дном, изменить традиции, которые создавались веками, и Не заплатить за это. Наверное, это плата, слишком большая…
Пакстон все еще не верила, но спор возникал не впервые.
— О каких традициях ты говоришь? О рабстве? Как ты можешь?
— Некоторые рабы раньше жили гораздо лучше, чем сейчас, когда они свободны и сами отвечают за себя.
— Бог мой!
Но миссис Эндрюз была убеждена в том, что говорила, и Пакстон знала это.
— Посмотри, на что они похожи в результате рабства! Они не умеют читать и писать, работают как волы. Их унижают, ограничивают в правах, они лишены того, что доступно нам, мама! — Она очень редко называла ее так, только когда была в отчаянии или очень взволнована и растеряна, как сейчас Но Беатрис Эндрюз не заметила этого.
— Может быть, они не в состоянии воспользоваться этими привилегиями, Пакстон. Я не знаю. Я только хочу сказать, что нельзя изменить мир за одну ночь без последствий.

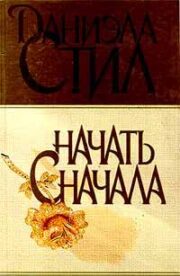
"Начать сначала" отзывы
Отзывы читателей о книге "Начать сначала". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Начать сначала" друзьям в соцсетях.