— Я почувствовал, — сказал мне Конрадо, — что с этой минуты судьбы наши разъединились. Джульетта встала между нами. Мы оба полюбили одну и ту же женщину и на этот раз почувствовали себя врагами.
В самом деле, между ними началось немое соперничество. Они больше не говорили между собой. Оба стремились к Джульетте. Под предлогом посещения старого Бернардо, который лежал больным, они каждый день ездили на ферму Рокко. Они сменяли друг друга у изголовья старика и около Джульетты. Иногда они встречались на дороге, когда один поднимался, другой спускался.
— Мы обменивались тогда убийственными взглядами. Я не знаю, что нам мешало кинуться друг на друга. Не понимаю также, — говорил мне Конрадо, — что мешало мне, когда я видел Альберто проходящим со своей возлюбленной под моими окнами, выйти им навстречу и оскорбить его надменное счастье.
Джульетте, — продолжал он после краткого молчания, — я не был неприятен, но я не был убежден, что она не любит Альберто. Увы, вскоре я получил ревнивую уверенность в последнем.
Это произошло на другой день после смерти старого Бернардо. Конрадо был с Джульеттой в сосновом лесу. Появился Альберто. Оба мужчины предложили ей сделать немедленный выбор между ними.
— Ах, — вскричал Конрадо, — я любил ее… Она улыбалась Альберто, и эта улыбка была насмешкой надо мной. Альберто был любим. Ему было назначено целовать этот прекрасный рот, пить его дыхание, сжимать в объятиях это тело, а я, я…
Он стоял на пороге, готовый уйти. Взор его не мог расстаться со статуей Джульетты. Длинная слеза стекала по его щеке. Я ощутил в своем сердце меланхолическую жалость. Ночью я его увидел во сне. Слеза не высохла на его мертвенно бледной щеке.
Утром я велел перенести к нему статую Джульетты. «Возьми ее, — писал я ему. — Она твоя; пусть она утешает твое одиночество. Не благодари меня. Да поможет тебе вечная против живущей!»
Каждый год, при возвращении весны, в городе устраивались маскированные празднества. Одни из них собирали знатных синьоров с их женами; на них старались появляться в полном великолепии; но я предпочитал этим величественным удовольствиям маскарады более свободного круга, куда молодые люди приводили своих возлюбленных и где куртизанки заменяли матрон. Вот там я с удивлением и встретил Альберто Коркороне. Увидев меня, он уклонился в сторону и сел на другом конце стола. Джульетта, находившаяся рядом с ним, приветствовала меня грациозным кивком головы. Она показалась мне удивительно прекрасной, но необычайно бледной.
Когда все вышли в сад подышать свежим воздухом, я прошел на террасу. Моттероне струился у подножия стены с нежным и глубоким шумом. Отсветы фонарей качались в нем. Запах мутной воды поднимался от реки, смешиваясь украдкой с благоуханием ночных цветов. Когда я возвращался в дом, на повороте одной из аллей меня остановил Альберто.
— Я хочу поговорить с тобой! — сказал он отрывистым и глухим голосом, в котором я почувствовал скрытый гнев.
Мы сели на скамью. В темноте я слышал, как ножны его кинжала царапали камень. Должно быть, невидимая рука Альберто теребила рукоять.
— Ты отдал статую Конрадо? — внезапно спросил он после минуты молчания.
Я наклонил голову, но в темноте ему показалось, что я ничего не ответил, и он повторил жестким голосом:
— Ты отдал статую Конрадо?
— Да.
Легкий ветер колебал листву. Минутами нас озаряло мерцание висячего фонаря. Альберто смотрел на меня с бешенством. На рукояти рубин краснел каплею крови.
— Ты ревнуешь! — сказал я ему.
Я говорил ему долго, очень резко и сурово. Он оставался мрачным и молчаливым. Вдруг он разразился внезапным смехом.
— Ты прав, я ошибаюсь. Я на тебя сердился. Не все ли равно теперь, будет ли эта статуя здесь или там. Что значит пустое, мертвое изображение? Я уж думал идти к Конрадо и отнять эту статую; и если бы я его увидел, я бы его убил. Нет, биться за женщину из мрамора, когда мы не бились за женщину из плоти! Ха, ха!
Он, казалось, вдруг повеселел от этой мысли и, положив руку на мое плечо, шептал мне на ухо:
— Какое это должно быть мучение! Он любит ее, а она неподвижна, холодна, молчалива и бесстрастна. Он говорит, она не отвечает. Сколько бы ни ходил он вокруг нее, пустые глаза ее не видят его. Кажется, что она есть, но ее никогда не будет. Да, в самом деле, я был неправ. Бедный Конрадо! Он любил ее; а я, я люблю ее и обладаю ею. Посмотри, как она прекрасна.
Джульетта подходила к нам. Взошла луна, тяжелая и желтая. Издали доносилась музыка. Джульетта села рядом с Альберто. Одной рукой он взял ее руку, а другую положил на обнаженную грудь своей возлюбленной. Он ласкал ее линии и напряженной ладонью приподнимал округлость; потом, раздвинув пальцы, пропустил между ними подобно рубину кольца острый и мясистонежный сосок слегка сдавленной груди. Альберто искоса глядел на меня. Он следил за мной. И мне кажется, что, если бы я обнаружил самый легкий признак желания, он убил бы меня.
Он по-разному продолжал ласкать сладостную грудь Джульетты. Я оставался бесстрастным и не опускал глаз.
Мы покинули тень деревьев и все трое направились в дом. Ветер колыхал фонари. Это был тяжелый и лихорадочный, можно сказать, подозрительный ветер. Город, впрочем, часто бывал нездоровым, в особенности весной и осенью. Дышащие заразой извивы Моттероне порождают опасные испарения. В такое время года лихорадка царит непрерывно, и поэтому здешние женщины часто слабы, бессильны и болезненны. Вот почему, когда я увидел Джульетту в винограднике старого Бернардо, с корзиной, полною винограда, ее здоровая красота так поразила меня. Горному воздуху, запаху стойл, смолистому благоуханию сосен была она обязана своею сладкой и великолепной плотью. Но краски ее щек погасли. В этот вечер под глазами у нее были синеватые круги, лицо побледнело, и если бы я захотел изобразить ее средствами своего искусства, то в качестве материала я прибегнул бы не к ослепительной белизне мрамора, а к темноватым тонам бронзы.
Действие нездорового воздуха начало сказываться еще до осени. С первыми летними жарами на город обрушилась внезапная и ужасная эпидемия. Болезнь была столь же жестокой, как и стремительной. Колокола каждое утро возвещали неожиданные похороны. Одной из последних жертв этого бедствия была Джульетта. Я уже заранее прочел приближение смерти на ее лице. Она умерла.
В гроб положили не бледную умершую, а синеватый труп. Она не унесла с собой того образа высшей красоты, который в наших глазах иногда придает покидающим нас сходство с людьми живыми, но погруженными в сон. Понадобилось силой разомкнуть руки Альберто, охватившие приготовленное к погребению и уже тлеющее тело, и оторвать его губы от губ, тронутых гниением. Он с отчаянием цеплялся за то, что было желанием его любви. Когда могила приняла останки прекрасной Джульетты, ее возлюбленного увели шатающимся и почти безумным от скорби. Я помогал поддерживать несчастного. Наше мрачное шествие медленно тянулось по улицам. Наконец мы прибыли на Старую Площадь. Я невольно поднял глаза и посмотрел на соседний с дворцом Альберто дворец где жил Конрадо. Окна, обыкновенно запертые, сегодня были открыты настежь. Но во дворце Альберто окна замкнулись над его отчаянием. Альберто жил уединенно в дальних комнатах своего дома. Он избегал дневного света. Он по целым дням оставался неподвижным, устремив взор к невидимому образу.
Я часто навещал его в эти скорбные дни. В первый же раз, когда я направился к нему, мне повстречался на Старой Площади Конрадо. Его вид чрезвычайно поразил меня. Таинственная радость озаряла его лицо. Я уже подходил к нему, когда он издали сделал мне загадочный знак и скрылся, приложив палец к губам. Его поведение поражало не только меня одного. Все, кто его видели, замечали то же самое. Я узнал, что он часто гуляет по улицам; он ни с кем не разговаривал, но иногда пел на ходу. Случалось даже, что его видели сидящим под виноградными лозами в беседке. Он приказывал ставить на стол два стакана. Он наполнял их, но осушал всегда только один. Эти рассказы возбудили мое любопытство. Я пошел повидаться с ним. Меня не приняли. Несколько дней спустя мне подали письмо. Конрадо писал мне: «Друг, Джульетта вернулась. Тленное тело, в котором горела ее жизнь, теперь стало прахом. Отныне она живет в вечной форме, которую ты приготовил для нее из несокрушимого мрамора. Благодарю тебя, я счастлив».
Альберто поднялся, с усилием сделал несколько шагов и снова упал в кресло. Он сказал мне:
— Кончено, ее больше нет. Черви завершили свое подземное дело. Я боролся изо всех сил и больше не могу. Они пожрали тело Джульетты в ее могиле, они разрушили его в моей памяти. Она прах; она забвение. Я присутствовал, минута за минутой, при этом двойном исчезновении. Я чувствовал, как крошится тело и как растворяется воспоминание. Если бы я открыл ее гроб, я нашел бы там лишь неясный прах, подобный тому пеплу, который она оставила в моих мыслях. Закрыв глаза, я не вижу ее больше; она стала для меня темной и покрытой мраком.
На следующий день он добавил:
— Если бы я ее увидел снова, хотя бы на одно мгновение, неподвижной и бездушной, какой ты изваял ее когда-то в мраморе, мне кажется, что она возродилась бы во мне. Мои глаза восприняли бы ее форму, и моя душа вернула бы ей жизнь. Ах, зачем ты отдал статую Конрадо!
Еще несколько дней спустя он сказал мне:
— Ах, ты причинил большое несчастье.
Потом он пробормотал несколько невнятных слов. Зубы его скрежетали. Он быстро шагал взад и вперед; выбившись из сил, он опять сел, и Я услышал его бормотанье:
— Я пойду, я пойду, я пойду…
Он ушел. Что произошло между двумя Коркороне? Как случилось, что Альберто проник к Конрадо? Никто этого не мог узнать. Только их нашли обоих утром мертвыми у ног статуи Джульетты. У одного в сердце — лезвие кинжала с жемчужиной на рукояти; у другого в горле — лезвие кинжала с рубином на рукояти; и их двойная кровь слилась на плитах в одну красную лужу.
Высохшее пятно еще виднелось там, когда на обратном пути с кладбища я посетил дворец Конрадо. При входе туда я никого не встретил. Под моей одеждой я спрятал крепкий молоток. Я проник в залу, где находилась статуя. Я посмотрел на нее в последний раз, потом поднял руку и тяжело ударил.
С каждым ударом от мрамора отлетали куски, и он покрывался белыми рубцами. Благородный камень кричал или стонал от обиды, смотря по тому, ударяло или царапало его железо. Он сопротивлялся моим усилиям всей своей живой твердостью. Это была скорее битва, чем разрушение. Острый осколок отскочил мне в лоб; выступила кровь. Какая-то ярость, сменившаяся затем диким бешенством, охватила меня. Порой мне становилось стыдно, как если бы я бил женщину. Порой мне казалось, что я защищаюсь от врага. Я испытывал странный гнев, нечто безумное, непонятное. Я неистово дробил груди, округлость которых выщербилась. Руки были разбиты; я принялся за колени; сначала надломилась одна нога, потом другая, и статуя покачнулась; она рухнула ничком на плиты пола. Теперь это была лишь бесформенная глыба. Пощаженная голова откололась и подкатилась к моим ногам. Я поднял ее. Она была тяжела и совершенно не тронута. Я завернул ее в свой плащ и вышел из города.
Я шел долго. Моттероне отливал мертвенно-синим светом среди охровой долины. Я направился в горы. Достигнув соснового леса, я стал на колени и начал рыть землю. Я положил в нее мраморную голову, сначала поцеловав в губы ее губительную и смертоносную красоту. Там покоится она и теперь, среди красных стволов, где смола как будто плачет благоуханными и прозрачными слезами.
Соперник
Реми де Гурмону
Первым следствием смерти г-на де Ла Томасьера было то, что в убийстве обвинили г-на д'Эгизи. Обстоятельства складывались так, что всеобщее подозрение падало именно на него. 11 сентября 1687 года г-на де Ла Томасьера нашли в разорванной одежде, с черепом, проломленным под волосяным убором парика, в местности, называемой перекрестком Жиске, в имении г-на д'Эгизи. Поведение этого дворянина по отношению к г-ну де Ла Томасьеру позволяло думать, что именно он, скорее, чем кто-либо другой, мог так расправиться с человеком, вызвавшим, как все знали, его злобу и ненависть. Г-н д'Эгизи позаботился обнаружить эти свои чувства и довести до всеобщего сведения то оскорбление, которое позволил себе по отношению к его особе г-н де Ла Томасьер. Его обида стала общим достоянием, и теперь он испытывал, сколь неудобно слишком громко высказывать свои чувства и всем поверять личные недовольства, которые более приличествует держать при себе.
Как бы ни был раздражителен и приметно сварлив г-н д'Эгизи, все же от колкости и неуживчивости его характера было еще далеко до преступления, которого ничто не могло извинить, даже выставленное им на вид оскорбление, на которое жаловался этот мстительный дворянин.

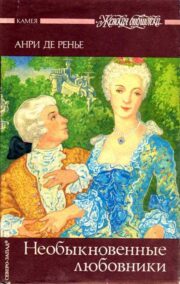
"Необыкновенные любовники" отзывы
Отзывы читателей о книге "Необыкновенные любовники". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Необыкновенные любовники" друзьям в соцсетях.