– Тсс, Вэнк! Ты не понимаешь. Это… Такая тайна… Такая…
– Я уже не маленькая.
– Нет, ты не представляешь, о чём я хочу сказать…
– Напротив, прекрасно представляю. Ты как малыш у Жалонов – тот, что по воскресеньям поёт в церковном хоре. Когда он хочет придать себе важности, то говорит: «Латынь… Ох, знаете, латынь такая трудная!» Но латыни он не знает.
Она вдруг запрокинула голову и рассмеялась, а Флипу вовсе не понравилось, что она за столь короткое время и так естественно смогла перейти от трагедии к смеху, от горестного недоумения к иронии. Может, из-за того, что наступала ночь, его охватила тоска по череде сменяющих друг друга мгновений любовного жара и блаженного умиротворения, по тишине, в которой слышно, как подобно лёгкому дождю стучит кровь в висках. Он снова жаждал былого страха перед неотвратимой и грозной минутой, что пригибал его к земле у того порога, который подростки, его сверстники, пересекают, шатаясь и проклиная.
– Помолчи, Вэнк. Не надо корчить из себя грубую и злую девицу. Когда ты узнаешь…
– Но я как раз и желаю узнать!
Её голос был фальшив, а смех – как у незадачливой комедиантки, ибо её корёжило и колотило, и она была так же грустна, как покинутые дети, готовые на самое рискованное, на любые страдания и сверх того – на всё самое худшее, пока судьба не отплатит сторицей…
– Прошу тебя, Вэнк, ты мне делаешь больно… Всё это так на тебя не похоже!..
Он уронил руку с плеча девушки и пошёл впереди неё. Она следовала за ним, перепрыгивая там, где тропинка сужалась, через кусты осоки, уже напитавшиеся росой, и по мере приближения готовилась с ясным лицом предстать перед Тенями. Но продолжала вполголоса повторять в спину Флипу:
– Так не похоже на меня?.. Не похоже на меня?.. Вот уж об этом ты, Флип, не имеешь понятия, хотя тебе известно столько разных вещей…
За столом оба держались достойно себя и своей тайны. Флип посмеивался над своими «дамскими недомоганиями», требовал к себе внимания, поскольку опасался, что заметят розоватые тени вокруг блестящих глаз Вэнк, полускрытые шелковистой копной волос, спущенных на лоб и обрезанных у самых бровей. Вэнк, ведя себя ребячливо, потребовала к супу шампанское: «Это, мама, чтобы подбодрить Флипа!» – и первая, не переводя дыхания, осушила полный бокал.
– Вэнк! – негодующе одёрнул её кто-то из Призраков.
– Да оставьте, – снисходительно промолвил другой. – Что ей сделается?
К концу трапезы Вэнк заметила, как он поглядывает в сторону ночного моря, невидимого отсюда горного кряжа, растворившейся во тьме дороги меж купами каменно-серого от дорожной пыли можжевельника… Она крикнула:
– Лизетта, ущипни-ка Флипа, а то он совсем заснёт!
– Она меня ущипнула до крови! – простонал Флип. – Маленькая дрянь! У меня даже слёзы выступили!
– Правда, правда! – пронзительно захохотала Вэнк. – У тебя слёзы на глазах.
Она смеялась, пока он растирал руку под белой фланелевой курткой; но он видел в её глазах и на щеках пламя игристого вина и след того понятного лишь ему безумия, от которого только и жди сюрпризов.
Где-то в тёмной морской дали проревела сирена, и одна из Теней перестала шевелиться, застыла, уперев в стол живот.
– На море туман…
– Я только что выходил посмотреть на Гранвильский маяк – он в густом молоке: фонарь едва мерцает, – промолвила другая Тень.
Звук пароходного гудка снова напомнил о ревущем автомобильном клаксоне на пыльном просёлке, и Флип вскочил на ноги.
– Сейчас его снова скрутит! – злорадно выкрикнула Вэнк.
По привычке ловко уклоняясь от нежелательных взглядов, она повернулась к Призракам спиной, а её собственные очи с мольбой впились в Флипа.
– Нет, ничего подобного не повторится, – заверил он всех. – Но я валюсь с ног, а потому прошу позволить мне отправиться спать. Спокойной ночи, госпожа Ферре… Спокойной ночи…
– Ну, мой мальчик, это она мстит тебе за твоё вечное нытьё.
– Может, принести к тебе в комнату чашечку не слишком крепкого настоя ромашки?
– Не забудь пошире раскрыть окно!
– Вэнк, ты отнесла к Флипу флакон с нашатырём?
Голоса дружественных Теней сопровождали его до самой двери, подобно праздничной гирлянде неброских и несколько поблёкших, но всё ещё приятно пахнущих сухих цветов. По давно заведённому обычаю он на прощание чмокнул Вэнк в подставленную щёку (обычно его поцелуй приходился куда-то мимо: в ухо, в шею либо в краешек покрытых лёгким пушком губ). Затем дверь затворилась, оборвав благодетельную гирлянду, и он остался один.
Комната с окном, развёрстым в безлунную ночь, встретила его недружелюбно. Стоя под лампочкой, затянутой жёлтой кисеёй от мошек, он вдохнул её запах, негостеприимный, хотя и слабый, – то, что Вэнк называла «запахом школяра»: так пахли книги в добротных переплётах, приготовленный для переезда кожаный чемодан, клеёные каучуковые каблуки, тонкое мыло и хороший одеколон.
Особого страдания он не ощущал, его заменило чувство отъединённости от людей и такой усталости, от которой лечит только забвение. Флип быстро лёг, погасил свет и привычно пристроился к стенке: это место на постели издавна служило ему надёжным убежищем от всех напастей детства. Там был самый приятный уголок: под надёжной простыней, уткнувшись носом в обои с цветочками, поверенные его грёз и подростковой лихорадки, он видел свои лучшие сны – обычно в полнолуние, во время высоких приливов, или под июльскую грозу. Здесь Камилла Дальре обретала лицо Вэнк, а властная Вэнк верховодила им с нечистой холодной ловкостью балаганного иллюзиониста. Но ни Камилла Дальре, ни Вэнк его грёз не желали вспоминать, что Флип – всего лишь маленький ласковый мальчик, страстно жаждущий одного: примостить голову на тёплое плечо, маленький мальчик десяти лет…
Он проснулся, посмотрел на часы и, увидев, что на них без четверти двенадцать, понял: ему придётся коротать время до рассвета в неуютном, погружённом в сон доме. Тогда он надел сандалии, стянул на поясе завязки купального халата и вышел на свежий воздух. Нарождающийся полумесяц цеплялся рогом за прибрежный утёс. Розоватый и ущербный, он не освещал округу; Гранвильский маяк, казалось, добивал его каждым проблеском своих красных и зелёных фонарей. Однако лунного мерцания хватало, чтобы загнать тьму под древесные кроны, и белая штукатурка дома призрачно отсвечивала меж заметных глазу опорных балок. Оставив открытой застеклённую дверь, Флип вступил в тёплую ночь, словно в печальный, но надёжный приют. Он сел прямо на землю, она была жёсткой, каменистой и сухой: за шестнадцать лет многократно перекопанная и утрамбованная почва быстро впитывала росу (теперь лопатка Лизетты постоянно натыкалась на втоптанные сюда ржавые остатки игрушек, погибших десять, двенадцать, пятнадцать лет назад и приобретших вполне археологически-пристойный вид).
Он чувствовал себя несчастным, мудрым, отъединённым от всех. «Может, это и называется – стать мужчиной?» – думал он. Неосознанная потребность поделиться с кем-нибудь собственной мудростью и печалью бесплодно мучила юношу, как и прочих порядочных маленьких атеистов, кому светское образование не предоставило в качестве зрителя Высшего судию.
– Это ты, Флип?
Голос слетел к нему легко, словно принесённый ветром лист. Он поднялся и бесшумно подошёл к окну с деревянным балконом.
– Да, – шепнул он. – Ты не спишь?
– Разумеется, нет. Сейчас спущусь.
Она приблизилась совершенно беззвучно, он увидел лишь, как плывёт навстречу светлое лицо – силуэт её фигурки был полностью растворён в ночном сумраке.
– Ты простудишься.
– Нет. Я надела своё голубое кимоно. Да к тому же сейчас тепло. Не надо здесь оставаться.
– Ты почему не спишь?
– Не хочется. Я думаю. Не нужно здесь стоять: разбудим кого-нибудь.
– Тебе не следует в такое время спускаться к воде. Насморк подхватишь.
– Насморк мне не грозит. Но в вовсе не настаиваю на том, чтобы спуститься к морю. Можно, наоборот, подняться повыше и немного прогуляться.
Она говорила почти неслышно, однако Флип не упускал ни единого слова. Ни с чем не сравнимое наслаждение доставляло ему то, что её голос звучал без тембра. Он уже не принадлежал ни Вэнк, ни какой бы то ни было другой женщине. Теперь рядом с ним была просто бесконечно родная душа, невидимое, но до боли знакомое существо, от которого не надо ждать едких придирок; и нет у неё иной цели, кроме безмятежной прогулки, мирного бдения…
Он оступился, на что-то наткнувшись, и Вэнк поддержала его, ухватив за руку.
– Здесь горшки с геранью, разве не видишь?
– Нет.
– Я тоже. Но я помню – знаешь, как слепые: просто знаю, что они здесь… Осторожнее: там, с твоей стороны, на земле должна быть подставка для них.
– А об этом ты почему знаешь?
– У меня в голове засело, что она там. Если споткнёшься, шум будет словно от опрокинутого ведёрка с углем. Бум!.. Ну, что я говорила?
Этот лукавый шепоток очаровывал Флипа. Он готов был прослезиться от удовольствия, а ещё потому, что мог наконец расслабиться, видя Вэнк такой мягкой и в темноте так похожей на прежнюю двенадцатилетнюю девчушку, которая что-то шептала, склонившись во время ночной рыбалки над рыбками, когда они извивались в лунном свете на мокром песке…
– Вэнк, а помнишь ту ночь, когда мы выловили самую большую нашу камбалу?..
– И твой бронхит. Это нам стоило строгого запрещения ходить на рыбалку ночью… Слушай!.. Ты закрыл за собой стеклянную дверь?
– Нет…
– Видишь, поднимается ветер? Дверь будет хлопать. Ах, если бы я не думала обо всём…
Она исчезла, почти тотчас вернулась, ступая бесшумно, как сильф, такая невесомая, что он догадался о её приближении только по запаху духов, принесённому ветром…
– Чем ты надушилась, Вэнк? И почему так сильно?
– Не говори так громко. Мне было жарко. Я растёрлась туалетной водой, прежде чем выйти.
Пряный запах зелени, исходивший от вспаханной земли, мог заставить позабыть о близости моря. Низкие заросли густого тимьяна били Флипа по голым лодыжкам; проходя, он ласково погладил бархатные головки львиного зева.
– Знаешь, Вэнк, у огорода нас никто не услышит: рощица заслоняет от дома.
– Но в доме всё тихо, Флип, и мы не делаем ничего плохого.
Она только что подобрала прежде срока упавшую с дерева грушу, подточенную червём. Он расслышал, как она откусила от плода и тотчас отбросила его.
– Что ты делаешь? Ешь?
– Это одна из жёлтых груш. Но она недостаточно хороша, чтобы дать её тебе.
Подобная непринуждённость не вполне рассеяла довольно расплывчатые опасения Флипа. Он нашёл Вэнк немного слишком податливой, лёгкой и безмятежной, как лесная нимфа; внезапно ему вспомнилась беспричинная, словно пришедшая из иного, нездешнего мира весёлость и какая-то сумасшедшая ласковость, некогда поразившая его в смехе монашек. «Видеть бы её лицо!» – сказал он себе. И содрогнулся, представив, что приятные уху незвонкие речи радостной девочки, может быть, произносят сведённые от боли губы на застывшем, как яростная маска, и блистательно пунцовом лице, какое у неё было там, под скалой…
– Вэнк, послушай… Надо возвращаться.
– Как хочешь. Ну потерпи ещё чуть-чуть. Мне сейчас хорошо. А тебе? Значит, нам обоим хорошо.
Ночью так легко жить! Но не в комнатах. Ох, я в последние дни ненавижу свою комнату. А здесь мне не страшно… Ой, светлячок! И так поздно: в это время года их уже не бывает! Нет, не бери его, оставь… Дурачок, ну что ты так вздрагиваешь! Это кошка пробежала, только и всего. По ночам кошки охотятся за лесными мышами…
До него донёсся сдавленный смешок, и рука Вэнк обхватила его за талию. Он прислушивался ко всем шорохам и потрескиваниям, восхищённый, несмотря на свою тревогу, этим тихим, нескончаемым и переменчивым ропотом. Вэнк же вовсе не страшилась темноты, она вела себя будто в дружественной, знакомой стране, объясняя Флипу, словно он здесь был долгожданный, но незрячий гость, то, чего он не знал и не понимал.
– Вэнк, дорогая, давай вернёмся… Она тихонько, по-лягушачьи ойкнула.
– Ты назвал меня «Вэнк, дорогая»! Ох, почему ночь не длится круглые сутки! Вот здесь ты – другой, не тот, кто меня обманывал, и я не та, мне теперь не так больно… Ах, Флип, давай не будем возвращаться прямо сейчас, дай мне ещё хоть чуточку побыть счастливой, хоть немного – влюблённой, уверенной в тебе, как я была в своих мечтах, а, Флип?.. Флип, ты ведь меня совсем не знаешь.
– Может, и так, дорогая моя Вэнк…
Они вступили на жёсткую похрустывающую стерню, идти стало неудобно.
– Это гречиха, – объяснила Вэнк. – Они сегодня её сжали.
– Откуда ты знаешь?
– Разве ты не слышал, когда мы там ругались, как тут работали две молотилки? Я слышала. Присядь, Флип.
«Вот она, она всё слышала… Была как безумная, ударила меня по лицу, говорила бессвязные слова – и слышала, как здесь работали две молотилки…»

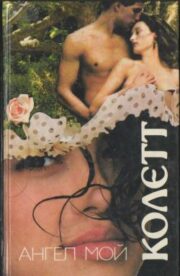
"Неспелый колос" отзывы
Отзывы читателей о книге "Неспелый колос". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Неспелый колос" друзьям в соцсетях.