Невольно он сравнил с этой неусыпностью всех женских чувств то, что теперь уже знал об иных чисто женских свойствах…
– Не уходи, Флип! Я же хорошо себя вела, не плакала, не упрекала…
Круглая головка Вэнк, её ровно подстриженные шелковистые волосы скользнули по его плечу, и жар её щеки обжёг его щеку. – Поцелуй меня, Флип, прошу тебя, прошу тебя… Он её поцеловал, сперва не испытав особого удовольствия: мешала неловкость крайней юности, склонной потакать только собственным желаниям, и слишком яркое воспоминание о поцелуе, который у него похитили без всяких просьб. Но почти тотчас его губы радостно распознали знакомую форму рта Вэнк, вкус только что надкушенной груши, он пришёл в восторг от торопливой готовности, с какой её губы раскрылись ему навстречу, даруя все свои тайны – и пошатнулся во тьме. «Надеюсь, – мелькнуло в голове, – надеюсь, что мы погибли. Ах, погибнем же быстрее, потому что так надо, потому что она этого хочет и никогда не будет желать ничего другого… О Боже, как её рот неотвратим и глубок и с первого раза всё умеет… Ах, так погибнем же, скорее, скорее…»
Однако обладание – чудо многотрудное. Её пальцы, которых он не мог разжать, яростно вцепились в его шею и сковывали все движения. Он тряс головой, пытаясь освободиться, но Вэнк, думая, что он хочет прервать их поцелуй, всё крепче впивалась в его затылок около уха. Наконец он схватил её за руку и рывком бросил на покрытую сжатой травой землю. Она издала короткий стон и затихла, но, когда он виновато склонился над ней, обняла его и уложила рядом с собой. Далее возникла очаровательная, почти братская передышка, пауза, во время которой с тактичностью опытных любовников каждый проявил к другому немного жалости и сострадания. Вэнк откинулась навзничь на руку Флипа, он не видел её, но его свободная рука гладила её кожу, знакомую и своей мягкостью, и выпуклыми следами, оставленными острой колючкой или каменным выступом. Вэнк попробовала даже рассмеяться, тихо прошептав:
– Оставь мои прекрасные ссадины… И всё же – как хорошо на сжатой траве…
Но по её голосу он ощутил, как она прерывисто дышит, и тоже задрожал. Он всё время возвращался к тому, что меньше всего в ней знал – к её рту. В одно из таких мгновений, когда они переводили дыхание, он хотел было рывком вскочить и со всех ног броситься к дому. Но стоило отодвинуться от Вэнк, как силы тотчас его оставили и объял ужас от прохладного воздуха и пустых рук, он порывисто бросился к ней, она – к нему, и их колени сплелись. Тут у него хватило сил назвать её «Вэнк, милая», и смиренная мольба в его голосе призывала помочь ему в том, чего он от неё добивался, и одновременно забыть об этом. Она поняла и на всё отвечала лишь обречённым молчанием, быть может, даже мучительным для неё, и торопливостью, причинившей ей боль. Он услышал короткий возмущённый крик, почувствовал, как она непроизвольно засучила пятками по земле, но тело, оскорблённое им, не попыталось отстраниться и не желало милосердия.
XVII
Спал он глубоко и мало и встал с убеждением, что весь дом пуст, но, выйдя, увидел сторожа с его молчаливым псом и свои рыболовные принадлежности, а на втором этаже услышал обычный утренний кашель отца. Он спрятался за живой изгородью из бересклета и стал оттуда подглядывать за окном Вэнк. Свежий ветер рассеивал облака, таявшие от его дыхания; повернув голову, Флип обнаружил паруса судёнышек из Канкаля, лежащих на короткой и крепкой волне. Ни в одном из окон ещё не было жизни.
«А как она? Спит? Говорят, обычно они потом плачут. Может, и Вэнк сейчас плачет. Как раз теперь ей бы полежать на песке, как бывало, положив мне голову на руку. Вот тогда бы я ей и сказал: "Всё неправда, ничего не произошло! Ты – моя Вэнк, такая, как всегда. И то наслаждение, что ты мне дала, – забудь о нём, да и не такое уж большое это было наслаждение. Ничто не правда, даже тот вырвавшийся у тебя вздох, и певучий стон, почти тотчас смолкший, – ты тогда вдруг сделалась такая тяжёлая и длинная в моих руках. Всего этого не было. Если сегодня вечером я исчезну и пойду по белой дороге к «Кер-Анне», если вернусь до восхода, то так затаюсь, что ты об этом не узнаешь… А потом мы пойдём гулять по побережью и захватим с собой Лизетту"».
Он ещё не был способен вообразить: то, что он мало доставил и мало получил удовольствия, – дело вполне поправимое. Детское благородство подвигало его лишь уберечь от гибели то, чем невозможно пожертвовать: пятнадцать лет зачарованной жизни, единственной в мире нежности, те пятнадцать лет, когда они оставались влюблёнными и чистыми близнецами.
«Я скажу ей: "Ты ведь не думаешь, что наша любовь, любовь Вэнк-и-Флипа, приводит только к гречишному полю с колючей стернёй? Она не упирается в кровать, будь то в моей комнате или твоей. Это очевидно, это ясно как день. Поверь мне! Да, правда и то, что некая женщина, почти что незнакомка, подарила мне такую торжественную радость, которая до сих пор приводит меня в трепет, даже вдали от неё я содрогаюсь, словно сердце угря, вырванное из живого угря, но что не сделает ради нас наша любовь? Это ведь понятно, это само собой разумеется… И если я заблуждался, тебе незачем знать о моих слабостях…"
А ещё я скажу ей: "Это просто преждевременные грёзы, сон, бред, пытка, во время которой ты впивалась зубами себе в руку, бедный мой спутник, мой отважный младший соратник на жестоком пути. Для тебя это – только наваждение, пусть кошмарное; для меня – худшее из унижений, миг сладострастия, уступающий по силе одинокому пробуждению от соблазнительного сна. Но ничто не потеряно, если ты согласна забыть и если я сотру в памяти то, что уже милосердно укрыла ночь… Нет, я не сжимал коленями твой гибкий стан; но подставь мне спину, и, как встарь, мы с гиканьем помчимся по песку…"»
Тут он услышал, как кольца занавески скрипнули по железному карнизу, и призвал на помощь всю свою смелость, чтобы не отвернуться.
Распахнувшись, хлопнули о стену лёгкие ставни, и показалась Вэнк. Она часто мигала и смотрела в даль остановившимся невидящим взглядом. Затем обеими руками взъерошила ещё растрёпанные со сна волосы и извлекла засохшую травинку… Её лицо озарили улыбка и яркий румянец, она перегнулась через перила, уронив спутанные пряди на лоб и выискивая глазами Флипа. Наконец, стряхнув остатки сна, вынесла из комнаты матово поблёскивающий глиняный кувшин и щедро полила пурпурную фуксию, цветущую на деревянном балкончике. Затем посмотрела на свежее голубое небо, сулящее хорошую погоду, и принялась напевать песенку, с которой начинала каждое утро. Затаившись в своём укрытии, Флип глядел на неё, как человек, готовящийся к покушению.
«Она поёт… Приходится поверить глазам и ушам: поёт! И поливает фуксию!»
Ему ни на миг не пришла в голову мысль, что такое её появление как нельзя более соответствует его собственным недавним чаяниям и должно бы его осчастливить. Он весь отдался разочарованию и, ещё не приученный анализировать свои чувства, упрямо ограничился сравнением:
«Я здесь с ночи залёг под её окном, потому что между детством и моей теперешней жизнью разверзлось, как пропасть, чудовищное откровение. Она же поёт. Она поёт!..»
Лазурь её глаз соперничала с цветом утреннего моря. Вэнк расчёсывала волосы и, не разжимая губ, вновь заводила всё ту же песенку, чему-то неясно улыбаясь…
«Она поёт. Она будет красива за завтраком. Она крикнет: "Лизетта, ущипни-ка его до крови!" Ни особого счастья, ни особой беды… Такая же, как всегда…»
Он увидел, как Вэнк перегнулась, вдавив себе в грудь балконные перила, чтобы заглянуть в его комнату.
«Ну да. Сейчас я появлюсь в соседнем окне – шагну через балюстраду на её балкон, и она бросится мне на шею…
О ты, кого я называл "мой повелитель", почему ты казалась мне подчас более очарованной и удивлённой, чем эта несмышлёная девочка, у которой такой естественный вид?
Ты уехала, не поведав мне всего. Если ты держалась за меня лишь из тщеславия дарителя, то сегодня ты бы впервые меня пожалела…»
Из открытого окна доносился простенький напев, негромкий и радостный, однако он не трогал Флипа. Ещё менее он думал о том, что через несколько недель поющий сейчас ребёнок, вероятно, у такого же окна будет рыдать в растерянности и ужасе от неотвратимого. Флип растянулся на земле, уткнувшись лицом в лежащий на земле локоть, и стал созерцать собственную свою малость, глубину своего падения и никчёмности. «Ни герой, ни палач… Немножко боли, немножко удовольствия… Я дал ей только это… только это…»

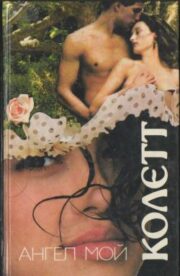
"Неспелый колос" отзывы
Отзывы читателей о книге "Неспелый колос". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Неспелый колос" друзьям в соцсетях.