Бледное лицо, трепетный взгляд — таким выглядит на фотографии Рудольф-подросток: запуганный примерный ученик, который в страхе перед суровым отцом-императором зазубривает все, что согласно директивам, одобренным в высшей инстанции, на пяти языках ему преподносят выбранные придворной канцелярией учителя (в общей сложности пятьдесят пять человек) — выдающиеся умы империи и наиболее надежные верноподданные.
А вот еще одна фотография: измученный, худенький мальчик в рединготе и шляпе, при часах на цепочке. Оттопыренные уши, выпуклый лоб — не иначе как от распирающих голову знаний; Франц Иосиф стремился воспитать для себя идеального, безупречного наследника.
На следующем снимке он запечатлен уже генералом (?) в мундире с золотыми позументами, на шее орден Золотого руна — фамильный знак отличия Габсбургов. Хилый, щуплый подросток неловко сжимает в руках лайковые перчатки; поясной снимок выполнен ракурсом снизу, дабы скрыть, что модель несколько отстает в своем физическом развитии. Плечи у Рудольфа узкие, голова большая. Но в этой голове уже бродят мысли, не подобающие подростку, а тем более наследнику престола. ("Королевство — это обветшалые руины, будущее за республиканской формой государства".) На этой фотографии ему столько же лет, сколько было его отцу, когда тот вступил на престол. Он даже похож на отца, хотя пока что вынужден приобретать навыки лишь за учебным столом. Правлению страной Рудольф обучается в теории, по школьным задачам, да и то под учительским надзором. Что делать с этим пестрым государственным конгломератом, унаследованным от средневековья? Не рассыплется ли он в прах при первом же прикосновении? Франц Иосиф лишь отмахивается: юношеская блажь, какой наследник не носится с идеей радикальных реформ! — с улыбкой говорит он, прощая сыну его завихрения. Мутирующее кукареканье молодого петушка, у которого еще не установился голос. Вырастет — поумнеет. Однако не все относятся к принцу с отеческим всепрощением: "К семи часам прибыл наследник, мы отужинали с ним на пару, затем прошли в библиотеку; он, нагло развалясь на кушетке, до одиннадцати курил сигары и пил шерри. Нес всякую околесицу о свободе, о равноправии и об аристократии, которая, по его мнению, изжила себя, а под конец заявил, что его самое горячее желание — стать президентом республики. Меня же при этом не покидала мысль, что он либо пьян, либо не в своем уме". (Дневник князя Кевенхеллера.)
Словом, не исключено, что в первоначальные расчеты вкралась какая-то ошибка. Новомодное и научно обоснованное воспитание удалось чересчур хорошо. К тому времени, как годы учения остались позади, многочисленные и тщательно подобранные пестуны вытесали из наследника австро-венгерской короны типичного мелкого либерала образца сорок восьмого года. Однако все это пока что не беда: император, слава богу, отличается отменным здоровьем, и трон Рудольфу не светит. К тому же его ожидает лучшая школа жизни и государственного правления — армия, незаменимое и достойное поприще каждого эрцгерцога из габсбургского рода. Итак, большой крест ученику, награды поменьше — для учителей, и с богом, Рудольф, отбывай к месту назначения, в 36-й пражский пехотный полк. Командовать, натаскивать рекрутов, — да может ли мечтать будущий правитель о лучшей подготовке к своей грядущей деятельности? Тем временем происходит оккупация Боснии и Герцеговины. Франц Иосиф расширяет границы своей империи (в виде частичной компенсации за утраченные итальянские провинции), а Рудольф чуть не сходит с ума от жажды действий и от волнения: вдруг да повернется сейчас судьба Австрии! "Управиться бы одним махом и с Россией!" — еще не раз будет он взывать к небесам с такою молитвой, все более отчаиваясь в успехе. Но Австрия ни тогда, ни после не отважилась схватиться с возвышающимся над нею исполином, ибо каждой клеточкой своего существа трепетала в страхе перед ним; мнения Рудольфа же и по этому поводу, и по любому другому ни тогда, ни после не спрашивали. Но он пока что не ропщет.
В Праге он тоже образцово прилежен, можно сказать, первый ученик в классе великих князей, с прохладцей осваивающих военную науку. К воинской службе наследник относится всерьез: во-первых, как всякий Габсбург, он знает, что армия — это и есть сама империя, а во-вторых, такова его натура: примерный мальчик и любит, когда его хвалят. Он и удостаивается высочайшей похвалы: отец с удовлетворением читает донесения об успехах сына и вознаграждает орденом. (Даже в семейном кругу нельзя иначе: необходимо поддерживать порядок и дисциплину — поощрением и наказанием, повышением или разжалованием в чине.) Рудольф прилежен в учении, обходителен с товарищами, любит чехов и хотел бы постичь их чаяния. Он говорит с ними по-чешски и берет специальные уроки, дабы усовершенствовать произношение, — и все же его ненавидят. Это поражает его, беспокоит и заставляет задуматься. И в полном ошеломлении наблюдает он из окна своих покоев в Градчанах, как внизу, в городе, дерутся чешские и немецкие студенты, — ведь наследник сроду не слыхивал о национальных раздорах. Среди его наставников, пятидесяти пяти австро-венгерских интеллигентов, исповедующих принципы просвещения и либерализма, не нашлось ни одного, кто указал бы принцу на это, с позиций либерализма и просвещения, атавистическое и абсурдное, но все же достопримечательное явление. Тут-то и доходит до сознания наследника, что до сих пор он жил в некоей вымышленной, абстрактной стране. Тут-то и начинает он заниматься политикой: пытается примирить чешских и немецких либералов, ведь и те, и другие, да и сам он стремятся к одному — священному прогрессу! С этого момента отзывы о Рудольфе, поступающие в Вену, уже не столь благожелательны.
Пусть тогда Рудольф переселяется домой, в Вену; пускай путешествует, охотится, устраивает парадные смотры, объезжает отцовские владения, пусть оглядится и на Балканах — в "сфере интересов", нанесет официальные визиты европейским дворам, словом, приобретает практические навыки и между делом присматривает себе супругу, пускай слегка подебатирует с Бисмарком, пускай заводит знакомства, показывается перед народом, чтобы и народ имел возможность узнать будущего правителя, пусть открывает выставки, закладывает памятники, строчит отчеты о проведенных охотах, увивается за актрисами или княгинями (не забывая при этом и о женитьбе!) и сочиняет — жалко, что ли! — меморандумы или исследования по внешнеполитическим вопросам (секретарь потом прочитает), ведь в конце концов неплохо, что наследник интересуется подобными делами, — лишь бы только всерьез в политику не совался.
А наследник в ту пору адресует свои политические мемуары лишь графу Латуру, своему старому воспитателю и гофмейстеру времен своего детства: "Смею ли я заговорить? Не сочтут ли меня из-за этого дерзким бунтовщиком? Ведь никто никогда не говорит со мной о политике, меня вечно лишали права иметь собственное мнение… Я же вижу перед собою склон, по которому мы катимся вниз… и все-таки ничего не могу поделать… не смею даже высказаться вслух…"
Судьба, открой простор передо мною! Однако простор перед ним не открывается, напротив: чем более Рудольф стремится к какой-либо цели, тем сильнее наталкивается на австрийскую геронтократию. "Мне она еще послужит…" — так якобы отозвался Франц Иосиф о своей империи, продолжая за письменным столом любовно и ревностно копаться в армейских делах. Если же чехи и немцы опять примутся лупить друг дружку почем зря… ну, так на то и армия, чтобы навести порядок.
"Абсолютно ничего не знаю о том, что здесь происходит!.." — изливает душу Рудольф Морицу Сепшу, который был двадцатью четырьмя годами старше наследника и переселился в Вену из Галиции. Жизненный путь и стремительная карьера этого журналиста, расцвет и провал его газеты являются чуть ли не символом, типичной карьерой либерального буржуа, поначалу круто взмывающей вверх, а затем сходящей на нет. В Бург привел Сепша Карл Менгер, давний учитель Рудольфа и экономист; Сепш в ту пору был редактором и издателем "Нойе Фрайе Прессе", искушенным в делах высокой политики, всеведущим и весьма амбициозным газетным магнатом. Его связи распространялись от Санкт-Петербурга до Лондона; новоявленный интеллектуал, Сепш мыслил в европейских масштабах, что, однако, в узких рамках Австро-Венгерской монархии не являлось однозначной похвалою, поскольку, судя по всему, глазам журналиста, привыкшим к масштабной перспективе, домашние дела виделись в несколько туманном свете. Так или иначе, Рудольф и Сепш, как принято говорить, не относились к одной весовой категории. Впрочем, газета Сепша — по крайней мере в Вене — пользовалась довольно большим влиянием; при дворе ненавидели этот печатный орган (или, согласно подзаголовку, ''демократический орган") вкупе с его редактором. Это была либеральная, приверженная конституции, более того — антиклерикальная и антифеодальная, терпимая к религиозным проявлениям, антинационалистическая газета — лейб-орган австрийской буржуазии. Иными словами, по оценке германского посла в Вене, это была "буржуазная газета с вульгарно-либеральной тенденцией, антинемецкая и проеврейская".
"Мне ничего не рассказывают…" — жаловался юный наследник журналисту. И они заключают уговор: информация за информацию. Уговор впоследствии перерастает в союзнический сговор и даже в дружбу — политически роковую для Рудольфа связь.
Наследник, стало быть, нашел свою аудиторию — от тесненные от власти родственные души, которые охотно выслушивали его рассуждения о новой Австрии, о просвещенной буржуазной империи, о промышленности, торговле, реформах, о священном прогрессе. Его подбадривают, подстегивают, снабжают новостями и предоставляют в его распоряжение свою разветвленную систему связей, свою печать. Сепш (и стоящий за его спиной барон Хирш, международный банкир и предприниматель почти ротшильдовских масштабов, охотно выручавший и Рудольфа суммами в пределах нескольких сот тысяч крон) и наследник взаимно манипулируют друг другом во имя общих идеалов. Можно бы сказать и так: благородный интеллигент и благородный принц взаимно сбивают друг друга с толку, в то время как идеи их пользуются в Австрии все меньшим спросом. Понапрасну создает Сепш в своей газете image[18] наследника в прогрессивном духе реформистской партии; Рудольф все меньше отвечает представлению о будущем апостольском правителе и все более напоминает читателю, австрийскому буржуа, современного буржуазного политика (но разве не таким желали видеть австрийцы своего будущего императора?). И Рудольф столь же тщетно пытается распространять свои идеи пусть в анонимных, зато остроумных газетных статьях. Такова участь его и Сепша; оба они оказываются во все большей изоляции, и даже великие европейские перспективы не оправдывают их ожиданий. Понапрасну встречается Рудольф — в тайне, под покровом ночной темноты — с французским родственником Сепша; его собеседник — не кто иной, как Клемансо, будущий "Тигр", они могут разве что заверить друг друга во взаимных симпатиях. Что бы ни делал Рудольф, его действия лишены смысла. Его вымышленная Австрия не нужна никому: ни обладателям подлинной власти, ни улице, где тем временем шёнереровские[19] приверженцы пангерманизма избивают дубинками еврейских студентов, а социалисты Виктора Адлера готовятся отметить первомайский праздник.
Отсюда до Майерлинга уже всего лишь один шаг: человек, подавленный неудачами (а может, еще и измученный неизлечимой болезнью, сифилисом — ходили и такие слухи), подводит итог прожитого и констатирует, что потерпел полный крах; затем, на рассвете мглистого, холодного январского дня, нервы его сдают окончательно, и он не видит иного выхода, кроме как пустить себе пулю в лоб. Выходит, долгим обходным путем нам удалось подобраться — к решению? — к некоему выводу. Но вот вопрос: что с него проку?
Какой прок от этого обобщения, если там нет места для Марии Вечера? А ведь сколь убедительной была бы картина — с такой завидной наглядностью проявляются тут железные законы истории в действии! Налицо великие взаимосвязи и взаимозависимости!
Рудольф умирает потому, что не может жить, — как и монархия.
Но почему умерла Мери Вечера?
Умерла, потому что любила?
Миф всегда уверен в себе.
Но как Майерлинг не объясняет падения монархии, так и падение монархии не дает объяснения Майерлингу.
Признаемся в своей неудаче; мы бессильны выбрать того Рудольфа, который подобно последнему кусочку jigsaw-puzzle[20] точно ляжет на пустующее в складной картинке место и тем самым придаст цель и смысл неуловимым, непонятным линиям вокруг. Мы бессильны прежде всего постольку, поскольку не знаем, что думали друг о друге эти люди, пока охотились, ходили на скачки, улаживали судьбу Европы и покорялись законам собственной судьбы; какие страсти, мечты и намерения они приписывали друг другу? То бишь что означал для них театральный спектакль, неосознанными участниками которого они были? Мы не знаем, где кончается костюм и начинается кожа. Это и есть "майерлингская загадка".

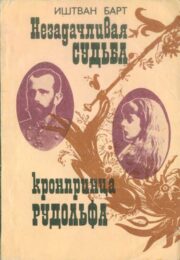
"Незадачливая судьба кронпринца Рудольфа" отзывы
Отзывы читателей о книге "Незадачливая судьба кронпринца Рудольфа". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Незадачливая судьба кронпринца Рудольфа" друзьям в соцсетях.