Никакой вам крови, одни благородные, платонические чувства; химически чистая любовная драма в духе олеографий с изображением исторических сцен. "Верус" с опытной журналистской хваткой компонует картину из просочившихся обрывков сведений. Он безошибочно чувствует, чего ждут от него читатели: идиллии. Им нужна не интрига и апокалиптическая трагедия, замешенная на крови, смерти и эротике, а мелодраматическая пьеса, где главные герои — несчастные влюбленные, раздираемые чувством долга и любовью; их трогательно прекрасная смерть знаменует великую совместную победу нравственности и любви.
Рудольф и Мария становятся парой святых покровителей — патронами несчастных влюбленных по всей империи.
Граф Хойос с вестью о смертельном отравлении принца сошел с поезда на венском Южном вокзале в 9.50, вскочил в фиакр, и часы Бурга показывали 10 часов 11 минут, когда он подъехал к Йозефплацу. В Швайцерхоф он прибыл на своих двоих, но бегом. И тут у него вдруг разом кончился запал, пригнавший его сюда из Майерлинга. Ворваться в кабинет императора? прямо так, в охотничьем костюме? И самолично ему доложить? чтобы потом, всякий раз как император взглянет на него, ему вспоминалась смерть сына? И вообще, смеет ли он являться к императору с такой вестью? Не существует ли в этикете какого-либо правила на подобные случаи?
По кратком размышлении он поднимается не по главной лестнице, а через кухонное крыло. Там, на третьем этаже, расположены апартаменты графа Бомбеля. Главный гофмейстер наследника (бывшего наследника!) наверняка сообразит, как поступить. Граф Бом-бель заявляет, что эту весть может сообщить императору лишь князь Гогенлоэ, главный гофмейстер его величества, и это вполне логично. Где же князь Гогенлоэ? Главный гофмейстер императора находится в Шопроне, и его ожидают в Вену лишь к вечеру. Тогда в этом деле может быть полномочен лишь барон Нопча, главный гофмейстер императрицы, — и Хойос с Бомбелем из княжеских апартаментов спешат к барону. Проходит, вероятно, несколько минут, прежде чем барон успевает оправиться от потрясения; его первая реакция так же однозначна: у него нет никаких полномочий. Придворные вновь начинают совещаться, в результате чего приходят к выводу, что поскольку наследник был армейским офицером, то печальную весть должен сообщить императору генерал-адъютант. Если вдуматься, то решение это вполне правильное, ведь, строго говоря, потеря воинского чина есть дело военное; стало быть, оно входит в компетенцию графа Эдуарда Паара. И эта чуть ли не комедийная сцена продолжается: господа, теперь уже втроем, поспешают в канцелярию генерал-адъютанта. Но и графа Паара одолевают сомнения. А время меж тем идет; империю постиг тяжелый удар, возможно, роковой, тело государства истекает кровью, но сигнал об этом еще не достиг мозгового центра; голова продолжает работать, словно ничего не случилось: отдает приказы, посылает телеграмму Рудольфу с запросом, сможет ли тот принять участие в торжественном ужине у великого князя Карла Людвига, — так подстреленный олень мчится дальше с пулей в сердце, ибо еще не ведает о том, что он, в сущности, мертв.
Графа Паара осеняет спасительная мысль: пусть императора поставит в известность императрица! Да, но кто скажет об этом самой императрице? Барон Нопча не решается взять такой риск на себя, зато и у него есть идея: Елизавету должно известить лицо, ей наиболее близкое, а значит, и менее всего рискующее впасть в немилость, и таким лицом, несомненно, является компаньонка императрицы Ида Ференци.
У Елизаветы как раз урок греческого языка; она штудирует "Илиаду" с помощью Руссопулоса, несколько экзальтированного юного грека с буйной гривой волос и горящим взором; императрица привезла его особой в Вену с острова Корфу. Как может судить читатель, мы располагаем точной информацией о ходе событий — что касается подробностей, абсолютно не существенных. Ида Ференци ровно в 10 часов 45 минут постучала в гостиную Елизаветы, прервав галоп гекзаметров. Простите за беспокойство, но у главного гофмейстера барона Ноп-чи важные новости, и дело не терпит отлагательств. Руссопулоса отсылают прочь, и барон Нопча (в результате все-таки именно он) передает доставленное графом Хойосом известие о майерлингской трагедии. Оба отравились. Но есть подозрение, что это дело рук барышни Вечера. Быть может, из ревности? Сперва отравила наследника, затем себя. Оба скончались. Сегодня ночью.
Елизавета выражает желание остаться одной.
Проходит всего лишь несколько минут, и в коридоре, ведущем к покоям императрицы, появляется император, дабы согласно своему дневному распорядку навестить супругу в ее апартаментах, где по окончании урока греческого языка в 11 часов будет выступать с декламацией актриса Катарина Шратт. Во время своего пребывания в Вене императрица всегда старалась облегчить супругу встречи с его любовницей; она приглашала актрису к себе, чтобы императору при его чрезвычайной загруженности не приходилось самому ездить к своей приятельнице.
Франц Иосиф проходит мимо охраны; караульный, что несет дежурство возле самой двери, уже должен бы подскочить и распахнуть ее перед императором, однако он, понурив голову, неподвижно застыл возле барона Нопчи, который вроде бы собирался что-то сказать, но у него дергается голова и слова нейдут из горла. И император энергичным движением хватается за ручку двери, но не успевает ее повернуть; главный гофмейстер императрицы, коснувшись руки императора, пресекает его попытку войти к супруге — сейчас, мол, нельзя. Франц Иосиф, должно быть, в недоумении воззрился на барона и тут заметил, что главный гофмейстер сотрясается от молчаливых рыданий.
Тем временем Елизавета осушает слезы и отсылает Иду Ференци прочь. Теперь можно впустить императора.
Компаньонка императрицы, погруженная в скорбь, стоит за дверью (в коридоре?) или — судя по всему, она обладала наибольшей практической сметкой — уже пытается обсудить с гофмейстером необходимые распоряжения прислуге, когда открывается дверь (или в конце коридора возникает женская фигура), и пораженная Ида Ференци видит, что к ней приближается баронесса Хелена Вечера. Баронесса еще издали улыбается, хотя и несколько растерянно. Как сюда попала эта женщина и чего ей нужно? Оказывается, она хотела бы просить аудиенции у императрицы; ей надо бы поговорить с ее императорским и королевским величеством о наследнике и о своей дочери, ибо лишь императрица… а, возможно, и ее милости известно…
— Нет-нет, ее величество сейчас не может вас принять, да и вообще… уже поздно… все знают, что они оба там, в замке… — Ида Ференци, не закончив фразы, резко поворачивается и отходит, оставив баронессу посреди коридора (залы?). Хелена Вечера, конечно же, ничего не поняла из этих сбивчивых слов, но, по всей вероятности, растерянно озирается, видя вокруг хмурых, молчаливых лакеев. Она стоит, не зная, как быть, и в этот момент распахивается дверь салона императрицы, и выходят Елизавета (за нею Катарина Шратт? или актриса тоже дожидалась перед дверью?) и Франц Иосиф. Неожиданно (и именно сейчас!) исполняется заветнейшая мечта честолюбивой баронессы! Аудиенция! (По крайней мере, нечто подобное.) Ей достаточно было бы поклониться, сделать реверанс, но она падает на колени — это получается у нее совершенно инстинктивно. Император молча проходит мимо нее. (За ним следует Катарина Шратт?) Когда Хелена Вечера поднимает глаза, над нею возвышается лишь фигура императрицы, и прежде чем баронесса успевает вымолвить хоть слово, Елизавета холодно и бесстрастно оповещает ее: — Уже поздно, оба мертвы. — На мгновение воцаряется гробовая тишина. Императрица также удаляется, успевая бросить на ходу: — Запомните хорошенько — Рудольф умер от сердечного приступа… Понятно? — Баронесса Вечера падает без чувств.
Меж тем весть распространяется подобно параличу, однако еще не достигла нервного центра, Премьер-министр граф Тааффе в этот час совещается с бароном Краусом: о барышне Вечера по-прежнему ни слуху ни духу, видимо, придется отнестись к делу всерьез, и он возьмется за него самолично. Однако, пока не вернулся с донесением агент, посланный утром в Майерлинг, надо поразведать и в других местах. Шеф полиции, возвратясь в свою канцелярию, вызывает к себе доктора Майснера: пусть отправляется к фрау Вольф и попытается выведать, что ей известно.
Пройдет еще добрых полчаса, когда премьер-министра отзовут с очередного совещания. (Обсуждается давно затянувшийся вопрос о снабжении города водой.) Затем, последней в Бурге, — даже через пятьдесят лет не забудет она этой обиды — и Стефания узнает о том, что стала вдовою. У нее в этот момент шел урок пения.
Бесформенный кошмар этого известия постепенно облекается в формулировки. Еще не известно, что же произошло в действительности; пока еще подбираются подходящие слова. Когда этот огромный, коллективный труд будет завершен, вот тогда-то мы и узнаем, что же случилось на самом деле.
Однако пока что даже на бирже лишь царит неуверенность, хотя там вот уже несколько часов знают и говорят о том, что в Бурге сейчас пытаются как-то свести воедино. Известие о случившемся доставил барон Натан Ротшильд, главный пайщик общества ''Южная железная дорога''; ему же сообщил по особому железнодорожному телеграфу начальник станции в Бадене: для того, чтобы остановить поезд (экспресс, который в Бадене не брал пассажиров), граф Хойос вынужден был сказать ему, какая беда случилась в Майерлинге. А начальник станции, хоть и пообещал хранить тайну, наверняка припомнил знаменитую историю об огромном барыше, нажитом ротшильдовским банком благодаря тому, что он раньше всех узнал о поражении под Ватерлоо, — и бросился к телеграфу. Ну, а барон Ротшильд вскочил в карету и, понимая, что новость эта ценится на вес золота, повез ее первым делом князю Ройсу в германское посольство, а уж потом на биржу. (Очередность тут никак не могла быть случайной.) Император, по всей видимости, еще ничего не подозревает, а на бирже уже падают курсы. Надвигается сумятица или уж по меньшей мере хаос — неопределенное будущее. Дабы предотвратить панику среди клиентов, биржу закрывают.
В половине первого распахиваются двери канцелярии главного гофмейстера: входит придворный советник Кубашек, бледный как смерть, весь дрожа. "Кронпринц скончался! — запинаясь выговаривает он. — Я Майерлинг отряжается комиссия. Господам Поляковичу, Шультесу, Слатину, капеллану Майеру, Киршнеру и Клауди незамедлительно собраться в дорогу! Они поедут со мной".
Члены комиссии прихватывают с собою и металлический гроб, который на всякий случай всегда наготове. Их задача: доставить домой останки и — согласно габсбургским фамильным правилам — "отыскать завещание", о котором и без того всем известно, что оно хранится в сейфе канцелярии главного гофмейстера.
В час пополудни перед воротами Бурга происходит торжественная смена караула. Как и повсюду в подобных местах, там тоже собралась охочая до зрелищ толпа; прохожие, приезжие, фланёры, зеваки слушают игру военного оркестра. Тамбурмажор подает знак, но едва только полковой оркестр успевает грянуть "Марш гугенотов'", как из ворот выбегает офицер лейб-гвардии и издали машет рукой, делая знак оркестру умолкнуть. Музыка обрывается в середине такта.
Слух распространяется по городу. Звонят телефоны — там, где они есть (там, где их нет, в дома являются посыльные с записками или почтальоны с телеграммами), отменяется вечернее представление в театре, откладывается бал, свертываются масленичные развлечения. Но почему? Предположения высказываются лишь шепотом. Слух ползет, ширится — вернее, слух о слухе. (Ведь знать — тем более наверняка — пока еще никто ничего не знает.) Пополудни уже мощная толпа (вспугнутое стадо овец в загоне?) выстраивается перед Бургом, куда одна за другой подкатывают великокняжеские кареты; толпа по каретам узнает и седоков — примадонн и бонвиванов грандиозных императорских спектаклей, но на сей раз не аплодирует им и не приветствует их выкриками. Народ озадачен и лишь испуганно перешептывается.
Толпа — это почти восемьсот тысяч жителей главного города тридцатишестимиллионной империи. А точнее — те несколько десятков тысяч, которых подобное событие хотя бы косвенно, но затрагивает, а поэтому и слух о нем доходит до них быстрее. На городские окраины (где проживает более ста тысяч людей, существующих лишь на нищенское вспомоществование, двадцать тысяч проституток и сто сорок тысяч лиц, страдающих половыми болезнями, причем по большей части ютятся они по нескольку человек в одной каморке, в домах без канализации, — добавляем мы, дабы сей устрашающей статистикой бросить тень на блистательную трагедию в Майерлинге, отчего, конечно, Рудольф и Мария не перестанут быть мертвыми, зато будет чуть понятнее, на какое наследие мог рассчитывать кронпринц даже здесь, в столице, помимо прочих мимоходом упомянутых хворей и бед империи и какие заботы поджидали его — знал ли он об этом? пожалуй, да! — вздумай он дождаться своей очереди на престол), ну так вот, на окраины слух вряд ли успел так быстро просочиться. Туда его принесет лишь на следующий день шестидесятитысячная (!) армия домашней прислуги, кормящейся трудом при императорском дворе и прочих дворах власть имущих, а с черного хода зажиточных домов в центре столицы ("Просить милостыню и играть на шарманке строго воспрещается!") вкупе с грязным бельем история эта будет передана прачкам, но уже несколько очищенной от непонятных (неподвластных рассудку, иррациональных, нелогичных и т. п.) элементов или, точнее говоря, более подогнанной к реальной жизни (то есть к ее воображаемому, королевскому варианту); поданная в таком виде история эта делала умершего — славного и красивого принца — более человечным, заземленным, низводя его с пышных и холодных высот трона.

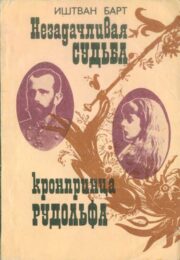
"Незадачливая судьба кронпринца Рудольфа" отзывы
Отзывы читателей о книге "Незадачливая судьба кронпринца Рудольфа". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Незадачливая судьба кронпринца Рудольфа" друзьям в соцсетях.