Не спрашивайте меня о днях, часах, минутах и тому подобных отрезках времени. Я до сих пор не могу вспомнить, день, два или три прошло с тех пор, как я заклеймил Ваньку Кулика и совершил еще одно убийство — священника отца Никанора. Я не хотел убивать этого человека, я вообще больше никого не хотел убивать. Но я — убил, и мне нечего сказать в свое оправдание…
Расправившись с Ванькой Куликом, я долго и бесцельно бродил по городу. Настало утро, я купил большую теплую ковригу хлеба, сунул ее за пазуху и отправился в городской сад. В самом отдаленном углу сада росла раскидистая, с густой кроной липа, на ветвях которой я провел уже несколько ночей. Хорошая это была липа, добрая: за день она впитывала в себя так много солнца, что даже утренняя прохлада, и та не могла до конца остудить ее тело. Ее листва надежно укрывала меня от всего остального мира. Если мне сейчас чего-то в том, потерянном для меня мире, и жаль — так это именно этой липы, если мне сейчас чего-то и не хватает, так это ее родного, теплого до самого утра, тела… Ну и вот: взобравшись на мою липу, я вытащил из-за пазухи ковригу и, отламывая от нее кусочки, стал машинально есть. Мне ничего больше не хотелось в этом мире, внутри меня больше не возникало никаких чувств. Мне было все едино — продолжать ли жить, умереть ли сию минуту… Прижавшись к теплому телу липы, я невольно слушал отдаленные звуки окружающего меня мира, до которого мне не было абсолютно никакого дела…
Сам того не осознавая, я заснул. Мне приснился сои. Это было тем более удивительно, что обычно сны мне снились весьма редко. Мне приснилась моя покойная мамка. Во сне она была молода и удивительно красива. Мамка стояла под липой, на которой я спал, смотрела на меня и светло улыбалась. Как она обнаружила меня в этой густой листве, кто ей сказал, что я здесь? Ведь даже перелетные птахи — и те меня не всегда замечали на этом дереве… «Мамка, — сказал я и заплакал, — вот видишь, как оно все несуразно получается…» «Тебе надо покаяться, сынок!» — сказала мамка. «Покаяться… — горько всхлипнул я. — Кто же их отпустит, мои грехи? Ведь грехи-то у меня какие, мамка! Несоразмерные грехи!» «Для НЕГО, — с ударением сказала мамка, — не бывает несоразмерных грехов. Ты покайся — ОН и простит». «ОН… — безнадежно вздохнул я. — Вначале ОН пускает меня на свет таким… таким… а как мне жить таким, не совершая греха?.. а затем ОН ждет от меня покаяния. Как же так-то, мамка?» «Да ведь главное-то, сыночек, не это, — сказала мамка. — Главное — это твоя душа. А она у тебя нежная, будто цветочек полевой…» «Мамка, — сказал я и снова заплакал, — мамка…» «Ты покайся, сынок», — сказала мамка… «Хорошо, мамка, — сказал я, — я покаюсь…»
С тем я и проснулся. Я вытер рукой свои мокрые глаза, засунул остатки краюхи поглубже за пазуху, слез с дерева и пошел каяться. Наверно, в этом городе имеется много храмов, но мне был известен всего лишь один — тот самый, в котором я был несколько дней назад и откуда меня по сути выгнали. И я пошел каяться в этот храм.
День клонился к вечеру. У входа на церковный двор сидели несколько человек нищих. Увидев меня, они недовольно заерзали и зашипели: должно быть, подумали, что я сяду рядом с ними, — а для чего им лишний конкурент? Я прошел мимо этих шипящих, оборванных калек и ступил на церковный двор. Здесь было совершенно пусто, и я направился в сторону того самого домика, куда прошлый раз ушел батюшка и в который меня так и не пропустила подвижная старушонка с колючими глазами.
Едва только я ступил на крыльцо, эта самая старушонка возникла передо мною вновь. Помню, я даже удивился столь неожиданному ее возникновению: будто из-под земли выросла бабуля…
— И куда это ты, милок, навострился? — как и в прошлый раз, затарахтела она. — Куда, спрашиваю, ты идешь? Если насчет обеда, то сегодня уже поздно, уже все съедено, да. А если ты насчет одежки к зиме, то…
— Мне нужно к батюшке, — перебил я старушонку.
— К батюшке! — насмешливо сказала бабуля. — А для чего тебе к батюшке?
— Стало быть, надо, — сказал я и вдруг почувствовал, что, наверно, не так уж мне к батюшке и надо, что я не прочь и уйти. И я бы ушел, если бы не вдруг припомнившийся мне сон. «Ты покайся, сынок», — сказала мне мамка… — Надо мне, поняла?
— Надо ему! — осуждающе сказала старуха. — Всем вам надо… покою от вас никакого! Нету, допустим, батюшки в храме… завтра будет! Вот завтра и приходи…
Не знаю, как бы я поступил в следующий момент: наверно бы все же ушел. Но, видимо, не суждено мне было в тот день уйти просто так, без дополнительного греха на мою, и без того пропащую, душу. Вероятно, услышав нашу перебранку, на крыльцо вышел батюшка собственной персоной.
— Что такое? — бегло спросил батюшка, глядя поверх меня.
— А говорила, что его нет… — сказал я, обращаясь к старухе.
— Иди отсюдова, милок, иди, — затараторила старуха и, сбежав с крыльца, принялась подталкивать меня в спину. — Ходят тут всякие… завтра с утра будет служба, вот и приходи. Завтра, завтра…
— Да ты, Людмила, погоди, — вдруг сказал батюшка. — Может, у него и впрямь какое-нибудь серьезное дело. Помнится, — обратился он ко мне, — я тебя здесь уже видел…
— Батюшка! — всплеснула руками старуха. — Да какие у них могут быть серьезные дела! Известное дело — убогий! Вот и все его дела…
— Да ты погоди, Людмила, — повторил батюшка, и вновь обратился ко мне: — Ну, так чего же тебе надо?
— Пускай она уйдет, — сказал я, указывая на старуху.
— Уйди, Людмила, — сказал батюшка, но вероятно из-за того, что старуха протестующе замахала руками, батюшка тут же переменил свое решение и сказал мне: — Ладно, пройдем со мной в помещение.
Помещение это было, как я понимаю, вроде как церковным складом. На столах охапками лежали свечи, рядом со свечами — множество белых нательных крестиков, рядом с крестиками — какие-то книги…
— Ну, так что же тебе надо? — спросил батюшка.
— Я хочу исповедаться, — сказал я.
— Вот как? — спросил батюшка и впервые взглянул на меня.
— Да, — сказал я.
— Дело, конечно, доброе, — сказал батюшка. — В особенности, если добровольно и не по принуждению. Что ж… Завтра будет служба, вот и приходи. Побудешь, послушаешь… Ну, а затем состоится и исповедь с причастием.
— Завтра? — спросил я.
— Я же внятно сказал — завтра! — нетерпеливо произнес батюшка. — Именно завтра.
— Мне надо — сегодня, — сказал я. — Сейчас.
Батюшка снова посмотрел на меня, и на этот раз он смотрел на меня долго и внимательно.
— Отчего же именно сегодня? — спросил он.
Я ничего ему не ответил. Ну что я ему мог сказать? Рассказать о своем сегодняшнем сне? О совершенных мною убийствах? О мертвой Феюшке? О жизни моей нескладной и несуразной? Долго пришлось бы рассказывать, да и — как об этом расскажешь? Хотя, наверно, на исповеди так или иначе об этом рассказывать пришлось бы, но то — исповедь…
— Ну, так отчего такая спешка? — переспросил батюшка. — Грехи, должно быть, замучили?
Я опять ничего не ответил и лишь молча передернул плечами.
— Оно и хорошо, если замучили, — сказал батюшка. — Проведи ночь в размышлении и молитве и завтра — приходи. Завтра, понимаешь?
— Почему? — спросил я. — Почему — завтра?
— Потому, — нетерпеливо сказал батюшка, — что есть порядок. Раз и навсегда заведенный порядок!
— То есть, — сказал я, — сегодня Бога нет, а завтра — он будет?
— Бог есть всегда! — резко сказал батюшка.
— Тогда почему же — завтра? — спросил я.
— Знаешь, что? — сердито сказал батюшка. — Иди-ка ты, убогий, отсюда восвояси! И — приходи завтра. В храм. На утреннюю службу. Понял, наконец?
— Завтра — это слишком далеко, — сказал я. — У меня нет времени, чтобы завтра… Завтра будет обрыв. Шаг в стремнину…
— Что? — не понял батюшка.
— Ничего, — машинально сказал я, захваченный невесть откуда возникшей во мне мыслью…
Странная это была мысль, странная, страшная и вместе с тем отчего-то предельно для меня соблазнительная. «Убей священника! — говорила мне эта мысль. — Убей этого не желающего тебя понимать, равнодушного человека! До исповеди — убивать можно. Это после исповеди нельзя… рука не поднимется, а до исповеди можно… убей этого человека! Ведь он не желает тебя понимать и не желает тебе помочь… ну и убей его!» Моя рука — это была не моя рука! Она сама собою полезла за пазуху и рядом с недоеденной краюхой хлеба нащупала нечто длинное и холодное. Это была пиковина, та самая пиковина, которую я намедни отобрал у Ваньки Кулика и с помощью которой я Ваньку Кулика наказал. Как она оказалась у меня за пазухой, рядом с недоеденной краюхой, почему я не замечал до этого, что она — там? Моя неподвластная мне рука ухватила пиковину, мигом выдернула ее из-за пазухи, я сделал резкий шаг навстречу батюшке и ударил его пиковиной в живот. Батюшка охнул, недоуменно взглянул на меня и стал падать…
Если бы мне навстречу попалась та самая старуха, которая не пропускала меня к батюшке и которую батюшка называл Людмилой, то, думаю, я бы убил и ее: окровавленная пиковина была в моих руках… Но — старухи нигде не было видно. По-прежнему держа пиковину в руке, я прошел через весь церковный двор, прошел мимо церковных нищих (помню, как все они в испуге шарахнулись от меня), прошел почти через весь город. Скоро я был уже в городском саду у родной мне липы. Взбираясь по теплому липовому стволу, я обратил внимание, что, оказывается, окровавленной пиковины в моих руках уже нет. Куда я ее подевал, когда я ее обронил — не помню.
Я забрался на липу, устроился на ее ветвях, вытащил из-за пазухи остаток утренней краюхи и машинально принялся жевать. «Почему он не захотел меня исповедать? Ну почему он не захотел меня исповедать?» — звенела и саднила внутри меня одна и та же мысль.
Сам не понимая как, я заснул, а когда проснулся, была уже ночь. По липовым листьям барабанил упругий дождь, но лишь отдельные капли достигали меня, потому что крона моей липы была очень густой. Надежное это было укрытие, и другом эта липа была замечательным — молчаливым, теплым и все понимающим. Никогда больше у меня не будет такого друга… Ну, так вот, по листьям барабанил упругий дождь, но не он меня разбудил. Меня разбудила невесть откуда, прямо во сне, возникшая во мне мысль: мне надо убить еще одного человека — того самого журналиста. Еще только одного, последнего. А затем я пойду на могилку к моей Феюшке, обо всем перед ней отчитаюсь и — уйду к ней. Программа моей жизни в этом мире будет выполнена… Сидя на ветке и прислушиваясь к мерному шуршанию дождя, я стал обдумывать план убийства журналиста. К утру план был вполне готов…
Впрочем, для того, чтобы его осуществить, мне пришлось прожить на этом свете еще два, а может, и целых три лишних дня. Я никак не мог разыскать эту тварь, то есть этого самого журналиста. Ни на работе, ни дома его не было… Наконец мне повезло. Когда я в очередной, может, даже сотый по счету раз, позвонил из городского автомата этой твари на работу, в трубке раздался голос:
— Да. Я слушаю.
— Мне нужен журналист Наливкин, — сказал я.
— Я и есть журналист Наливкин, — сказал голос в трубке. — Кто со мной говорит?
— Слушай, Наливкин, — сказал я. — Ты знаешь о том, что в городе совершено вот уже несколько страшных убийств, а убийца до сих пор еще не пойман?
— Конечно же, я это знаю, — с нетерпением в голосе сказал Наливкин. — Более того, я написал об этом уже несколько статей. Неужели вы их не читали?
— Грош цена твоим статьям, — сказал я.
— Это почему же? — оскорбленно воскликнул Наливкин. — Весь город только о том и говорит, что об этих убийствах и о моих статьях на эту тему! Я там выдвинул несколько оригинальных версий. Если бы эти дуболомы-следователи к моим версиям прислушались…
— Ну и что же это за версии? — не удержался я от вопроса.
— Да с кем я говорю? — уже совсем сердито воскликнул Наливкин. — И вообще — почему я обязан с вами говорить? Кто вы такой?
— Я могу, — сказал я, — сообщить вам кое-что интересное об этих убийствах… Кое-что, о чем вы, я думаю, даже и не предполагаете.
— Вот как? — живо сказал Наливкин. — Интересно, интересно… Ну и что же вы за такую информацию хотите? Наверно, денег?
— Нет, — сказал я. — Я хочу, чтобы вы ответили на мой вопрос. Только на вопрос — и ничего более.
— На какой еще вопрос? — спросил Наливкин.
— Насчет ваших версий, — сказал я.
— Стало быть, — с огорчением сказал Наливкин, — вы и впрямь не читали моих статей… Жаль, жаль… А то бы вы не спрашивали…
— Я не читал ваших статей, — сказал я.
— Бывает, — с прежним огорчением сказал Наливкин. — Ну что же… Версии, значит, таковы. Все эти убийства совершены одним и тем же человеком либо одной и той же группой лиц. Я думаю все же, что одним человеком. Каким-нибудь комплексующим маньяком. Уродом.

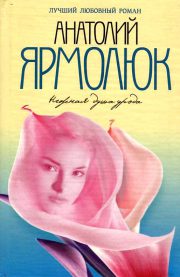
"Нежная душа урода" отзывы
Отзывы читателей о книге "Нежная душа урода". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Нежная душа урода" друзьям в соцсетях.