— Уродом? — переспросил я.
— Именно, — сказал Наливкин. — Нравственным, а возможно, и физическим уродом.
— Вот, значит, как… — сказал я. — Ну и для чего, по-вашему, этот урод совершил все эти убийства?
— Я думаю, — сказал Наливкин, — что он таким образом мстит миру за свое уродство. И коль так, то, я уверен, будут и другие убийства. Вот об этом я и написал. Искренне жаль, что вы не читали…
— Хотите подробнее узнать об этом уроде? — спросил я.
— Вы его знаете? — еще более оживился Наливкин.
— Думаю, что да, — сказал я.
— Ну и?.. — требовательно сказал Наливкин.
— Нам надо встретиться, — сказал я. — По телефону всего не скажешь. Тем более — у меня есть кое-какие зримые доказательства.
— Документы, что ли? — вскинулся Наливкин.
— Можно сказать, и так, — подбросил я дров и в без того пылающую печь. — Ну, так как насчет того, чтобы встретиться?
— Где и когда? — рявкнул Наливкин.
— Сегодня, — сказал я. — Вечером, когда стемнеет… скажем, часов в девять. Около городского сада. Вас устраивает?
— Вечером, когда стемнеет… — в раздумья произнес Наливкин. — Почему же так поздно?
— Вы боитесь? — спросил я.
— Я — боюсь? — оскорбленно воскликнул Наливкин. — Ничего я не боюсь… просто уточняю детали.
— Ну и что же — вас устраивает мое предложение? — спросил я.
— В общем — да… — не совсем решительно произнес Наливкин. — Ладно. Будем считать — договорились.
— Тогда — до вечера, — сказал я. — Да, кстати: вы должны приехать один. Никаких друзей, помощников и охранников. Один — понятно? Иначе встреча просто не состоится.
— Понятно, — сказал Наливкин. — Один так один — не впервой. Но все же — кто вы такой?
— Можете считать, что у меня с этим уродом свои счеты, — сказал я.
— Ну хорошо, — сказал Наливкин. — Я буду. Я приеду на «Тойоте» красного цвета…
— Хорошо, — сказал я. — Когда приедете, остановитесь у центрального входа в городской сад и ждите. Не исключено, что я минут на двадцать опоздаю. Не беспокойтесь, затем я непременно появлюсь. Но вы обязаны быть на месте минута в минуту. Иначе — говорю еще раз — встреча не состоится. Согласны?
— Мне кажется, что где-то я уже слышал ваш голос… — сказал Наливкин.
— Вряд ли, — сказал я. — Ну, так что?
— Я буду, — сказал Наливкин. — Ах, черт возьми, какая получится статья!
— Именно потому я и завел с вами этот разговор… — сказал я и повесил трубку.
В том, что эта тварь заглотила мой крючок, я не сомневался. Я сомневался в другом — выполнит ли он все мои предварительные условия, иначе говоря, приедет ли он вовремя и без помощников? В этом, зная Наливкина, я все же изрядно сомневался, а потому, закончив разговор, я тотчас же пошел к городскому саду. Там, при входе, рос замечательный, ветвистый карагач. Я взобрался на этот карагач, надежно укрылся в его ветвях и принялся ждать девяти часов вечера. Ожидание ничуть меня не тяготило: приезда этой твари Наливкина я готов был ждать хоть до скончания века.
Сидя на карагаче, я детально перебирал в уме, как я Наливкина убью. Все должно получиться, все непременно должно получиться! Я вытащил из-за пазухи орудие убийства и еще раз внимательно его осмотрел. Это была удавка, замечательная, крепкая и надежная удавка, которую я смастерил из случайно найденного мною куска веревки. Нет-нет, все непременно должно получиться!
Наконец, стало темнеть, в городе зажглись огни и отовсюду послышались вечерние звуки. Мягко шурша шинами, ко входу в городской сад подъехал красный автомобиль и остановился как раз под деревом, на котором я сидел. Из машины вышел Наливкин и завертел головой, явно кого-то высматривая. Скорее всего, он высматривал меня, но не исключено было, что и своих тайных помощников. Оттого-то в телефонном разговоре я и выговорил для себя двадцать минут времени — чтобы посмотреть, не появятся ли откуда-нибудь эти самые помощники, а если они, чего доброго, приехали с Наливкиным в одной машине, то, думал я, в течение этих двадцати минут они непременно должны будут дать о себе знать: выглянут из машины, подадут голос, закурят…
Прошло двадцать минут, но никто к Наливкину не подошел, никто не выглянул из машины, не подал голос и не закурил. Похоже было, что Наливкин и впрямь приехал на встречу один. Ну что ж… Я неслышно спустился с дерева, так же неслышно подошел к машине, отворил дверцу и уселся на заднее сиденье. Вскоре вернулся Наливкин и также сел в машину — на переднее сиденье, там, где руль. Наливкин курил, и чувствовалось, что он изрядно нервничает.
— Привет, — сказал я, и Наливкин в испуге резко обернулся на мой голос.
— Черт… — сказал он, всматриваясь в меня. — Какого хрена ты тут делаешь?!
— А по телефону ты меня называл на «вы»… — усмехнулся я.
— Черт побери! — еще раз чертыхнулся Наливкин. — Кажется, где-то я тебя все же видел… А, ну да!
— Вспомнил? — спросил я. — А маленькую женщину, которую ты выкрал и продал в бордель, ты тоже, надеюсь, вспомнил?
— Черт! — в третий раз произнес Наливкин это бессмысленное слово и попытался выскочить из машины.
И тогда я накинул ему на шею удавку. И — потянул за конец. Потянул не изо всех сил, а, так сказать, вполсилы — чтобы Наливкин перестал трепыхаться и успокоился.
— Пу… сти! — захрипел Наливкин, ухватившись руками за веревку. — Пусти… гад, сволочь, гном вонючий!
— Сидеть! — сказал я и дернул веревку посильнее. — Сидеть и не шевелиться, иначе… Вот так!
— Что тебе… надо? — прохрипел Наливкин. — У меня есть деньги… сколько ты хочешь?
— Не надо мне денег, — сказал я и вдруг почувствовал, до чего мне это все надоело: надоели и эти бессмысленные препирательства с Наливкиным, надоел и сам Наливкин, и вся эта бессмысленная, именующаяся жизнью, кутерьма, и сам я себе надоел тоже. — Не надо мне денег, понял или нет! — заорал я и дернул за веревку — едва ли не в полную силу своих рук.
Я подумал, что уже все, был Наливкин — и кончился, но он очень скоро пришел в себя: должно быть, он очень хотел жить, этот Наливкин.
— Тебя, урода… тебя расстреляют! — прохрипел он. — Чего же ты хочешь… если не хочешь денег? Ну чего же тебе надо?
Когда я готовился к убийству Наливкина, я, мастеря удавку, продумал и то, что я скажу этой мрази напоследок, перед тем, как навсегда затяну веревку на его шее. Я хотел ему сказать о том, как мучилась в борделе моя Феюшка, о том, как я ее затем хоронил, о том, как я затем одного за другим стал убивать всех, кто был причастен к гибели моей Полюшки. «Эх ты, — хотел я сказать Наливкину, — неужели ты так и не уразумел, что погибали как раз те, кто был причастен к смерти моей Феюшки? Как же ты этого не понял… дурак ты, дурак! Версии ты строил… и ведь, по сути, угадал… то есть ты угадал обо мне, — а о себе? А вот о себе ты так ничего и не угадал… ты так ничего и не понял…» Так я хотел ему сказать, но сейчас вдруг понял, что — ни к чему. Ни Наливкину эти слова не надобны, ни мне самому. Потому что словами, какими бы правильными они ни были, ничего уже не изменишь. И, так ничего Наливкину и не ответив на его последний вопрос, я изо всей силы потянул за веревку. Наливкин захрипел, задергался — и через минуту все было кончено…
Странно, но, убив Наливкина, я вдруг понял, что, оказывается, у меня не трясутся, как это было при первых моих убийствах, ни руки, ни ноги, я не чувствую никакой душевной дурноты. Должно быть, я постепенно, исподволь, незаметно для себя самого научился убивать… Я посидел в машине еще какое-то время, затем встал и обыскал мертвого Наливкина. Как я и предполагал, у него под одеждой был спрятан все еще работающий диктофон. Я вытащил этот диктофон и швырнул его оземь. От удара диктофон рассыпался. Я постоял еще, а затем пошел к моему единственному на этой земле другу — к моей липе.
Я решил переночевать на липе, а утром пойти на могилку к моей Феюшке, все ей рассказать, и затем... А что — затем? Свести с собой счеты — это очень просто, вдруг подумалось мне, но ведь мне еще хотелось и быть похороненным рядом с моей Полюшкой. А кто меня станет там хоронить? Зароют где-нибудь как собаку… Нет, надо дождаться сторожа Кириллыча и договориться с ним, чтобы именно он и похоронил меня. Кириллыч добрый, он согласится — да только когда же он появится на кладбище? Когда у него смена? Кажется, послезавтра… да-да, именно послезавтра. Значит, надобно было мне жить на этой земле еще до послезавтра…
Мне трудно сейчас вспомнить, что я делал на следующий день после моей расправы над этой тварью Наливкиным. Проснувшись, я слез с моей липы и, кажется, пошел в город. Да-да, так оно и было: я отправился в город. Я хотел разжиться хлебом. Деньги у меня к той поре все закончились, а жить мне предстояло еще два дня, а коль так, то надобно было подумать и о хлебе. Помню, мне удалось незаметно стащить с прилавка буханку, я сунул ее за пазуху и дал деру. Весь день затем я бесцельно бродил по городу, отламывал по кусочку хлеб, жевал, кормил этим же хлебом и бродяг-голубей… О чем я думал? Наверно, ни о чем. Припоминаю, что мне очень хотелось сходить на могилку к моей Полинушке, но я себя сдерживал, потому что там был не Кириллыч, а другой сторож — и мало ли, чем мог мой поход закончиться… Ну, а когда начало темнеть, я пошел к моей липе.
Не доходя шагов ста до липы, я вдруг запнулся и со всего маху плашмя шлепнулся на землю, расшибив при том лицо о какой-то невидимый среди травы камень. Встав и утерев кровь, я захотел посмотреть на то корневище, которое мне так некстати подвернулось под ноги. Я начал шарить в траве, и вскоре моя рука наткнулась на что-то длинное и холодное… Это было не корневище: это, к моему немалому удивлению, была та самая пиковина… короче, та самая, которую я столь неожиданно потерял. И вот на тебе — нашлась! Будто кто-то мне ее подбросил под ноги…
Я механически взял пиковину и продолжил с ней свой путь к липе. Подходя, я вдруг услышал какой-то шум. Кто-то был рядом с моей липой и вроде как бы даже прятался в траве… Я сунул пиковину за пазуху и быстро вскарабкался на ближайшее дерево. Дерево оказалось слабым, оно гнулось и трещало, и я тотчас же прыгнул на крышу какого-то заброшенного строения: когда-то, кажется, это была летняя эстрада. Была полная луна, и отсюда, с крыши, я увидел: никто, оказывается, не прятался в траве, все было куда как проще и объяснимее. В траве копошилась парочка. И он, и она были почти полностью обнажены, и занимались… ну, в общем, понятно, чем они занимались. Она лежала внизу, а он, соответственно, наверху. Разумеется, они даже предполагать не могли, что кто-то за ними наблюдает с крыши обветшавшей летней эстрадки…
А я — наблюдал. Мне отчего-то вспомнилось, как и мы с моей Феюшкой занимались тем же — не здесь, под липой, разумеется, а в другом месте — но какая разница! Ах, как мы были тогда с нею счастливы! Нам казалось, что мы нашли, наконец, свою собственную нишу в этом мире, мы приспособились к этому миру, мы уяснили его незыблемое правило: коль мы его не станем трогать, то и он нас не тронет… Парочка тем временем усердно занималась своим делом, и все, кажется, шло к финалу. Гибкое, молодое тело лежавшей внизу женщины вдруг стало изгибаться, она закинула голову, застонала и засмеялась… «Игорек, Игорек… — бесконечно повторяла женщина. — Ох, Игорек!..» «Поля, Полинушка…» — в свою очередь заговорил мужчина… Поля, Полинушка?!! Странный, розовый туман вдруг ударил мне в голову. Какая такая Поля-Полинушка? Откуда здесь взяться Полинушке? Нет на этом свете никакой Полинушки, убита Полинушка — украдена, убита и похоронена!.. Не помня себя, я сунул руку за пазуху, нащупал там пиковину, спрыгнул вниз и со всей силы ударил пиковиной в обнаженную спину мужчины…
Он вскрикнул, дернулся и стал валиться на бок. Обнаженная, ничего не понимающая, парализованная страхом женщина лежала на черной траве и, кажется, смотрела на меня… Полная луна зашла за тучу: я наклонился и провел рукой по лицу этой женщины. Окаянный розовый туман начал улетучиваться из моей головы. Это была не моя Полюшка. Я убил еще одного, на этот раз ни в чем не повинного человека. Я повернулся и побежал в глубь городского сада. Темные, колючие кусты хлестали меня по лицу. Где-то там, в этих кустах, я выбросил и пиковину. Вернее, даже и не выбросил, а просто уронил, да тут же о ней и позабыл…
Разумеется, в ту ночь я не спал на моей доброй липе, о чем жалею до сих пор. Это было единственное, не считая кладбищенского сторожа Кириллыча, доброе ко мне существо в этом мире, а я его так и не поблагодарил за доброту. Да и Кириллыча я не успел поблагодарить тоже… В ту ночь я спал в какой-то подворотне. Вернее, даже и не спал, а как-то так… Ближе к утру мне пригрезилась мамка. Она пришла ко мне и долго молча смотрела на меня. «Что тебе надобно, мамка?» — спросил наконец я. «Сыночек, сыночек, — сказала она, — что же ты наделал! Ведь я же тебе говорила — покайся! Покайся — говорила я тебе… Что же ты наделал, сынок! Ведь у тебя душа — как цветочек полевой! Как же ты будешь жить дальше — с такой-то душой»? «Не надо, мамка, — сказал я в ответ. — Не надо, слышишь? Ну больно же, мамка! Ох, и больно же, мамка… И — ничего теперь уже не изменишь. Ничего теперь не изменишь, мамка! Так что — уходи. Уходи, слышишь! Уходи и больше ко мне не являйся»… Мамка еще постояла, горестно покачала головой, повернулась и ушла. А вскоре наступило утро.

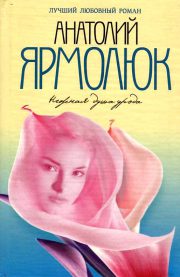
"Нежная душа урода" отзывы
Отзывы читателей о книге "Нежная душа урода". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Нежная душа урода" друзьям в соцсетях.