— Ты дура, — сказала она ей ровно и спокойно. — Я потратила годы, чтобы устроить твою судьбу.
Только теперь Лиза залилась слезами, бросилась на колени и попыталась поймать руку матери. Пожалуй, ей нужно было бы отравиться, пока правда о ее положении не выплыла наружу, но расстаться с жизнью было выше ее сил. И не потому, что она отчаянно боялась смерти, а потому, что для таких людей не честь, а жизнь, пусть самая ничтожная, единственное, что имеет цену.
Мать легонько стукнула ее тыльной стороной ладони по щеке, но не отняла руку, которую Лиза тут же поймала и принялась покрывать горячими поцелуями, перемешанными со слезами.
— Ты выйдешь за Ивана.
Лиза подняла заплаканное лицо.
— Но как?!
— Выйдешь.
Они выехали в Германию через три месяца. Мать отправила назад всех слуг и наняла немок, убедившись предварительно, что они не понимают по-русски ни единого слова. Визит Курбатским они нанесли через неделю. Елена Карловна пожаловалась княгине, что не на шутку разболелась и отправляется с дочерью на воды. Вдова была бледнее обычного благодаря толстому слою пудры и время от времени, прикладывая руку к правому боку, покусывала нижнюю губу. Княгиня заволновалась — надежность будущности любимого внука пошатнулась.
Пока Елена Карловна обрисовывала княгине симптомы своей болезни, Лиза и Иван сидели поодаль и не спускали друг с друга глаз. Лиза — потому что ей так было велено. А Иван — потому что не мог отвлечься от волнующего, распирающего платье Лизонькиного бюста, так сказочно округлившегося за то время, что они не видались, и ходуном ходившего теперь вверх-вниз, вверх-вниз… Он отнес причину ее волнения на свой счет, тогда как Лизе просто-напросто было ужасно тяжело дышать, из-за того что перед выездом мать собственноручно туго затянула в корсет и ее расплывшуюся талию, и торчащий маленький живот.
Следующий день они провели в театре. Еще один день в парке на набережной. А четвертый день принес долгожданное сватовство. По этому поводу распили бутылочку лучшего бургундского и составили объявление о помолвке, тут же отправленное в Петербург. Свадьба откладывалась до выздоровления Елены Карловны, и княгиня решила вернуться в столицу, дабы заняться приготовлениями дома на Фонтанке, который собиралась преподнести Ванечке и Лизе в качестве свадебного подарка.
После отъезда Курбатских Елена Карловна и Лиза в самых скромных своих нарядах сели в карету и целый день тряслись по проселочным дорогам, не сделав ни одной остановки. Матери не хотелось, чтобы в ее планы ненароком вмешалась какая-нибудь нелепая случайность. Мало ли кого из петербургских знакомых может занести сюда? Ей было достаточно той нелепой случайности, которой огорошила ее Лиза.
Маленький православный монастырь, ставший их приютом в последующие четыре месяца, затерялся в лесу, и, пожалуй, мало кто даже из жителей округи знал о его существовании. Распорядок дня и беспрестанные молебны, в которых временные постояльцы вынуждены были принимать участие, приводили Лизу в отчаяние. За несколько месяцев, проведенных в лесу, она пришла к убеждению, что хуже смерти может быть только монастырь.
Девочка родилась раньше срока, в Крещение, и крик ее слился с завываниями ветра за окном. Измученная долгими и тяжелыми родами, Лиза тут же уснула. Единственный взгляд, брошенный ею на окровавленное маленькое тельце, ставшее причиной многочисленных ее тягот и чуть не испортившее ей будущность, был первым и последним взглядом, которым она наградила свое родное дитя. Утром мать, явившись к ней узнать о самочувствии, застала ее бодрой, на ногах, хлопочущей рядом с сундуками. «Едем?» — радостно спросила Лиза, и глаза ее впервые за долгое время полыхнули надеждой и радостью. «Едем», — ровно ответила мать.
Крестить девочку Елена Карловна приезжала без дочери. Девочку нарекли Алисой, фамилию дав по названию местечка близ монастыря — Форст. Бабка повесила ей на шею золотой крестик, перекрестила трижды и вернулась с дочерью в Петербург, где полным ходом шли последние приготовления к свадьбе.
Елизавета вышла замуж за Ивана Курбатского в начале апреля 1829 года. День ее венчания совпал с наводнением…
Глава 2
Последствия смерти
В тот самый день, когда Лиза в монастыре металась в постели, проклиная еще не рожденного ребенка, сквозь пургу, медленно переставляя из сугроба в сугроб окоченевшие ноги, шла другая женщина. Странная женщина. Одета была как мальчишка — в штаны и тулуп. Боль раздирала на части ее тело, а безысходность — сердце. Она с тоской понимала, что вряд ли доберется до церкви, где ее ждали… Там было спасение и, возможно, счастье…
В доме князя Налимова не было огней. Да если бы и были? Она ведь не сумасшедшая, чтобы просить о помощи. К тому же с каждым мгновением она все яснее понимала, что часы ее сочтены. О помощи можно было просить теперь только Господа Бога. Но они с ним и без того были в разладе, а после сегодняшнего…
Она сумела дойти только до забора и упала в снег. Последняя попытка подняться окончательно лишила ее сил. Женщина принялась негнущимися посиневшими пальцами рвать на себе одежду, пытаясь высвободиться из тяжелого тулупа…
Арсений был в этот день задумчив больше обычного. По привычке последних дней он несколько вечерних часов провел запершись в своей каморке, на кровати, не мигая уставившись в одну точку. То ли его томило предчувствие великой беды, то ли все-таки, как болтали горничные, был он юродивым, а значит — через ненормальность свою мог чувствовать и понимать нечто такое, что не дано людям разумным и степенным.
Он встал с кровати на секунду раньше, чем залаяли собаки во дворе. Князь велел непременно спускать собак на ночь, не то чтобы боясь непрошеных гостей, а из любви к остромордым злющим тварям, нуждающимся в свободе. Пусть побегают, порадуются снегу, не то зажиреют — какая с ними весной охота будет. Сперва залаяла одна собака, к ней присоединились остальные, и вот уже вся стая с остервенением заливалась истошным лаем.
Поморщившись, Арсений поднялся и вышел на крыльцо. Лицо его сразу же облепило снегом. Борода в считанные секунды побелела. Собаки надрывались все сильнее. «Нет, — решил он, — в такую погоду честные люди носа на улицу не кажут…» И, возвратившись в комнату, прихватил пистолет со стены.
Он вышел за ворота без собак, закутавшись в медвежий тулуп, пошитый из прошлогоднего охотничьего трофея, и двинулся к тому месту, куда, царапая доски забора, пыталась прорваться стая со стороны сада. Страха он не ведал, Ему, прошедшему через адское пекло, сам черт был не брат. Время близилось к полуночи, снежное небо оставалось светлым, и кое-что можно было разглядеть.
Он не сразу нашел ее — застывшую, привалившуюся спиной к доскам забора. А заметив, сплюнул, сунул пистолет за пазуху, присел на корточки, стал равнодушно разглядывать. Шапка съехала на спину, темные кудри рассыпались длинными прядями, занавесив лицо. Она была закутана в овчинный тулуп как-то чудно, словно кто принес и бросил ее под забором.
Арсений огляделся, изучил дорожку следов. Не похоже, чтобы топтался еще кто-нибудь. Следы остались глубокими, метель еще не замела. Он снова нагнулся к женщине и сдвинул с лица волосы, покрытые тонким налетом инея. Глаза ее были закрыты. Приложил руку к щеке — теплая. Поднес ладонь ко рту, к носу — никакого дыхания. То ли померла только-только, то ли так плоха, что дыхания не учуять. Вспомнил, как во время иранской кампании солдатика одного чуть не закопали заживо. Доктор тогда сердце слушал и только по слабому его биению определил теплившуюся в теле жизнь. Арсений снова поморщился, лезть к бабе слушать сердце он ни за что не станет. Даже если ей суждено подохнуть. Однако нужно предупредить Марфу, что ли, пусть в сени ее втащат, может, и оживет.
Арсений побрел вдоль забора назад, и вдруг ему показалось, что сквозь завывания ветра слышит он тоненький какой-то звук. Словно зовет его кто-то. Он вернулся, снова присел на корточки, поднял русые волосы, заглянул бабе в лицо. Глаза ее оставались закрытыми, а щеки стали вдвое холоднее против прежнего. Она не шевелилась, но тоненький звук тем не менее стал отчетливей. Арсений пригнулся к самому ее рту, но звук издавали не ее заиндевевшие губы. Тогда он оторвал вмерзшую в снег полу тулупа, потянул, дернул и вскрикнул…
В ногах женщины растекалась кровавая лужа, а в ней барахтался живой, только народившийся ребеночек и тоненько пищал. Одной рукой Арсений задернул страшное зрелище, другой — закрыл глаза и задохнулся воспоминанием…
Женщина была мертва. Под правым ребром у нее зияла глубокая рваная рана. Князь цокал языком и морщился, глядя на Арсения. «Только этого нам недоставало, — бормотал он скороговоркой. — Завтра мои именины! Только этого…»
О его поместье с недавних пор ходила дурная слава. С тех самых пор, как сбежал паскуда конюх и трепал языком по кабакам. Именно тогда Арсений сделался молчалив, а князь чрезвычайно раздражителен. Их вечерние шахматные партии прекратились, в доме повисла тишина. Горничные мышками юркали из комнаты в комнату, боясь подвернуться барину под руку.
Побледнев при виде покойницы и затребовав сначала капель, князь не усидел в своем кабинете, швырнул бокал с каплями в камин, велел мужеподобной Марфе нести из погреба красного вина и, как только она скрылась в сенях, быстро подошел к Арсению, взял его за руку. «Поговорим», — сказал полунежно-полупросительно… А потом расхаживал по кабинету, хрустя пальцами, взглядывая поминутно то в темное окно, то в огонь камина. Арсений смотрел в одну точку, сидел не двигаясь.
— Далась тебе эта баба замерзшая, — взвизгнул наконец князь, но сразу понял: не то, не то, подошел вплотную к Арсению, нагнулся, провел дрожащей рукой по его щеке. — Забудем, — сказал он тихо. — Не могу больше. Прости ты меня, что ли?
Князь закрыл глаза. Арсений внимательно посмотрел на него, словно решая про себя, отчего тот зажмурился: или от раскаяния истинного, или потому, что он, князь, просил прощения у своего денщика. Арсению было важно — почему? Князь приложил руку к щеке, но Арсений успел заметить, как левый его глаз дернулся и выкатилась из-под ресниц слеза…
— Что теперь делать, ума не приложу, — в отчаянии пробормотал князь.
И тогда Арсений поверил наконец и его раскаянию, и его тревоге за дальнейшую их судьбу…
Арсен родился и вырос в крохотном ауле на вершине горы. Эривань отделяло от нее два горных хребта. В зиму через них было не перебраться. Жизнь здесь текла только в теплое время — пытались пасти скот, пытались выращивать плодовые деревья, но что, скажите, может вырасти на камнях?
За год до встречи с князем Николаем Налимовым Арсена женили, и его дом с утра до ночи оглашался детскими воплями. К жене он был холоден, сына — обожал. Он всегда был человеком суровым. Женщины вызывали у него отвращение, работа — равнодушие. Казалось, он появился на свет случайно и теперь только и ожидает момента, когда сможет покинуть этот безрадостный и неуютный мир.
Но рождение сына полностью переменило его. Он обмяк. Пару раз видели, как он неумело улыбался. В темной его голове впервые зашевелились мыслишки о будущем.
Но все это был только миг, и пролетел он быстрее всадников на гнедых лошадях, от которых пахло порохом и смертью. Уходя от русских солдат, они жгли землю, рубили шашками направо и налево. Жена Арсена стояла на пороге дома, когда на скаку, походя, кривая сабля опустилась ей на голову, рассекая шею, плечо и ребенка, которого она держала на руках.
В накатывающей сзади лавине русских Арсен карабкался по склону к своему дому, с ужасом глядя вперед и не веря глазам… Он даже не посмотрел на жену, поднял мальчика, и из громадной дыры в его таком крошечном тельце закапала, полилась обжигающе горячая кровь. И в этот миг, самый горький в его жизни, когда ярость к иранским псам обуяла его, он чуть сам не ушел вслед за своим сыном, так и не успев отомстить…
Налетевший сзади воин занес кривую саблю над его головой, и шею пронзила боль. Руки ослабели, он уронил бездыханное тело сына и приготовился умереть… Но смерть не спешила. Какой-то русский вдруг оказался рядом, отбил второй, наверняка смертельный, удар. Прозвенели сабли, и офицер оказался в сложном положении на краю пропасти, без оружия. Зажимая левой ладонью рану в плече, Арсен тигром бросился сзади на противника и одной только правой сломал ему толстую, лоснящуюся шею…
Им было по двадцать шесть тогда, и с тех пор они стали братьями. И спасение от смерти стало не единственным подвигом, который они совершили друг для друга. Они спасли друг друга от одиночества, слились душой и телом…
Правда, это случилось не сразу, но тогда, еще стоя на краю обрыва, они посмотрели впервые друг другу в глаза, один — сгорая от боли и ярости, другой — из пекла лихорадящей битвы, в которой, может быть, искал он забвения, и поняли оба, что не зря повстречались на этой земле.

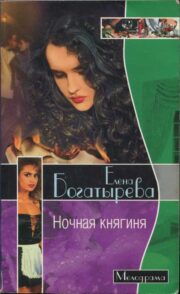
"Ночная княгиня" отзывы
Отзывы читателей о книге "Ночная княгиня". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Ночная княгиня" друзьям в соцсетях.