— А я хочу говорить не с вами, а с Марион.
— Мне нужно разрешение Беатрис, но она вышла.
— Я отец Марион и хочу с ней поговорить!
— Перезвоните позже.
Вот те на! А как же запрет?
— Нет, я хочу поговорить с ней сейчас.
— Беатрис права, вы грубиян. Позвольте напомнить, что я ваша теща!
Надеюсь, что ненадолго…
Что? Кто пользуется моим мозгом, чтобы так думать? Наверное, я сам, больше вроде некому… Я растерялся. Я не заметил, как у меня появилась эта мысль, судя по всему, она сидела во мне уже давно, пришла не предупредив. Я так взволнован, что с трудом понимаю: стараясь казаться хамом, непочтительным, неприятным, я добился своего. И после этого они хотят, чтобы я был учтивым? Печальный урок.
— Папа?
Меня так потряс звонкий голосок в трубке, радость так захлестнула меня, что я едва смог ее ощутить. Мы не существовали раздельно с моей радостью — тут она, а тут все остальное; я сам обратился в радость, я стал радостью, во мне не осталось ничего, кроме радости.
— Пап, это ты?
Слышать ее уже чудо. Все, что она говорит, прекрасно. Она этого не понимает, что тоже прекрасно, каждое ее слово — драгоценность.
И если я сам что-то говорю, то только затем, чтобы насладиться ответом, чтобы радоваться и радоваться ее голосу.
— Папа, пааап… А рыбки тоже писают?
Ну разве она не прелесть?
Отвечаю, что плохо разбираюсь в рыбах, но мне кажется, что рыбки тоже писают, как же без этого…
— Значит, когда я купаюсь в море, я купаюсь в рыбкиных писях?
Нет, это слишком прекрасно! Я восхищаюсь ею. Я ею горжусь. Мне такое и в голову никогда не приходило.
— Пааап… А я иногда кааак глотну морской воды. Значит, я рыбкины писи кааак глотну?
Чудо, чудо… Ликую в душе и успокаиваю дочку: воды в море так много, а рыбкины писи такие маленькие, что они с водой смешиваются, в воде растворяются, и в конце концов от них почти что ничего не остается. Поэтому она может спокойно купаться.
— Почти что — значит, немножко все-таки остается! А я не хочу купаться в Рыбкиных писях!
Ох, не знаю, сам-то смогу ли теперь плавать без задней мысли… Но как красиво она сказала!
— А бабуля с мамой говорят, что рыбки не писают!..
Так… У меня наверняка будут проблемы. Но дело и без того зашло чересчур далеко.
— Просто бабуля с мамой считают, что ты еще слишком мала, чтобы понять мои объяснения. Им кажется, только взрослый человек может понять, как рыбкины писи исчезают, смешавшись с водой. А я считаю, что ты достаточно взрослая. Сама-то ты как считаешь?
Она колеблется, потом тихонько шепчет: «М-м… угу…»
Наверное, теперь она станет обдумывать этот вопрос, то есть всерьез обсуждать его со своей куклой, чтобы кукла, которая, конечно же, все знает, сказала, что следует об этом думать. Кукла эта не из тех, которые умеют говорить, но она часто рассказывает Марион о том, что думает сама Марион. До чего же полезна такая кукла…
Как бы там ни было, у Марион будет время разобраться и понять, что же она считает, а пока малышка меняет тему:
— Па-па, я хочу, чтобы ты пири-е-хал!
Я таю. И представляю себе Беатрис — глаза вылезают из орбит, голос — как удар кнута: «Чтобы ты при-е-хал! ПРИ! Учись говорить правильно!»
— Ты хочешь, чтобы я приехал… Я не могу, мой ангел, я не в отпуске.
— Тебе ведь только надо сказать жирной свинье, что ты хочешь в отпуск…
— Дорогая, он не жирная свинья. Его зовут Эме.
Она растерялась:
— А мама говорит, что…
— Я знаю, но я хочу, чтобы ты называла его Эме, хорошо? — На этот раз пытаюсь изменить тему разговора я.
— Папа, я хочу, чтобы ты был тут!
Я таю и мучаюсь.
— Ты хочешь, чтобы я был с тобой… Я тоже этого очень хотел бы, но…
Но наш разговор обрывается, его обрывают. Является Беатрис. Я слышу ее суховатый голос, странная смесь сухости и вежливости.
— Марион, попрощайся, пожалуйста, и положи трубку.
Малышка слабо протестует. Совсем слабо. Чересчур слабо. После чего сухость резко возрастает, и мы оказываемся в абсолютно пустынной зоне — ни малейшего намека на растительность до самого горизонта, и я вижу лишь барханы, барханы, барханы, насколько хватает глаз.
— Марион, клади трубку! Сию же минуту!
— До свидания, папа…
В звонком голоске не слышно огорчения, только покорность судьбе. И привычка.
Такие люди не спорят, они приказывают.
— До свидания, мой ангел, моя феечка, любовь моя…
Дослушать ей не дают. В телефонной трубке уже короткие гудки, цензор не дремлет. Что я о ней думаю — вымарано цензором. Что я без нее скучаю — тоже вымарано цензором. И что я люблю ее — опять же вымарано цензором.
Вытираю слезы тыльной стороной ладони и кладу трубку.
Я несчастен.
У меня две руки, две ноги, я здоров, и все-таки я несчастен.
У меня чудесный ребенок, мой ребенок жив-здоров, и тем не менее я несчастен.
У меня интересная работа, я получаю за нее хорошие деньги, у меня, слава богу, прочная крыша над головой, и при всем при том я несчастен.
У меня красивая, умная жена, но я несчастен.
Многие хотели бы оказаться на моем месте, в моей постели, а я несчастен.
Я избалован судьбой, однако я несчастен.
Самое ужасное, что мне даже не стыдно.
Мой нейрон донельзя взволнован — я чувствую, что он одинок, брошен своими дезертировавшими товарищами. У меня остался только один нейрон, да и тот не знает, что делать. Ему необходимо действие, а не хандра. Ему кажется, что, если будет действие или хотя бы перспектива действия, его товарищи, покинувшие мой бездействующий мозг, сразу же вернутся. Короче: если им найдется работа, они, так и быть, вернутся, а если я буду хныкать — спасибо, нет.
Я молча соглашаюсь, я вежливо киваю. Действовать… Но как?
Учредить сообщество подвергшихся издевательствам, осмеянных и сломленных мужчин?
Похитить Марион и уехать с ней далеко-далеко, как можно дальше?
Купить аптеку, чтобы обрести покой и жить с Марион под одной крышей?
Покой? Скажешь тоже! Ты смеешься надо мной? Неужели сам в это веришь? — говорит мой разочарованный нейрон.
Тогда что?
Покориться?
Покориться, но на этот раз сознательно и зная почему?
Или же…
Или же?
Да, конечно.
Меньшее из зол. Единственное решение.
Я соглашаюсь, нехотя соглашаюсь, и мой нейрон доволен — подкрепление скоро придет.
Мое решение пугает и возбуждает меня, манит и удручает, делает меня слабым и придает мне силы.
Чтобы стать ближе к самому себе, к этому сумбуру чувств, я должен смеяться и плакать одновременно.
Что я и делаю.
13
Фотография под диваном
Она почувствовала на себе мой взгляд, подняла глаза и улыбнулась.
Я почувствовал на себе ее взгляд, поднял глаза и улыбнулся.
Мы с ней часто улыбаемся.
Теперь я знаю, что, когда она уйдет, мне будет без нее пусто. Или же пространство наполнится ее отсутствием.
Новую помощницу фармацевта зовут Сара. Это восхитительное имя. Она будет работать здесь несколько месяцев вместо сотрудницы, ушедшей в декретный отпуск. Если подумать, становится ясно: декретные отпуска слишком коротки.
«Как тебе Сара?» — спрашивает Эме. Что он имеет в виду? Отвечаю, что, по-моему, она красивая и очень милая.
Может быть, она даже слишком хороша?..
Меня не тянет к ней, дело не в этом, совсем не тянет, но… она мне очень нравится.
Она так тихо разговаривает со мной, как будто признается в самом сокровенном. Она так улыбается мне, как будто счастлива меня видеть.
Нет, разумеется, я не занимаюсь самовнушением, не стараюсь себя обмануть, вовсе не стараюсь. Нет-нет, она всего лишь хорошо ко мне относится.
Я чувствую, что я ей симпатичен, о таких вещах всегда догадываешься. Она прекрасно знает, что нравится мне: это сильнее меня, я ищу встречи с ней.
Это взаимная симпатия, вот и все.
Нет-нет, я не собираюсь встречаться с ней вне работы, не стоит все смешивать. Нет-нет, это было бы двусмысленно, она бы подумала, что у меня есть какие-то намерения… и это испортило бы нашу дружбу. Мы не друзья, я знаю, мы всего лишь коллеги, но это не мешает испытывать дружеские чувства.
Недавно, уж не помню по какому поводу, мы смеялись как сумасшедшие. Мы рыдали от смеха, а когда наконец успокоились и смогли посмотреть друг на друга так, чтобы снова не рассмеяться, нам почудилось, будто мы очень давно и близко знакомы, будто у нас есть что-то общее. Это был приятный, счастливый момент… Нам оказалось приятно не только хохотать вместе, нам оказалось приятно и то, что потом… особенно то, что потом.
С того дня мы как будто бы заключили договор о дружбе. Когда ты вот так с кем-нибудь смеешься, то ощущаешь, что между вами устанавливается согласие, возникает близость.
Думаю, есть мужчины, которые спят с женщинами, не испытывая такого сильного ощущения близости, какое мне было дано в тот день.
Странная мысль, сам не знаю, почему мне от нее никак не отделаться, сам не знаю, почему я все время возвращаюсь к ней: мы с Сарой намного ближе, чем некоторые любовники.
Нет, знаю почему. Мне уже давным-давно не было и никогда больше не будет ни с кем хорошо в постели. Я слишком стар для этого. Слишком истрепан. Во мне нет ничего, что могло бы понравиться женщине. Но пусть я не способен быть любовником, я могу быть другом.
Да, вот именно, только это и ничего больше — я хочу быть ее другом. Таким, как друзья детства, которым доверяют тайны, секреты, которым можно сказать все. Близким другом.
Я смотрю на нее, хочу или не хочу — все равно смотрю, это происходит помимо воли, просто так само собой получается. Я смотрю на нее часто и подолгу. На нее приятно смотреть. У нее довольно непослушные волосы, они всегда чуть-чуть растрепаны, они словно бы приплясывают на голове. У нее такой маленький хорошенький носик, что его хочется съесть — едва хватило бы на один укус. У нее полные губы, созданные для того, чтобы их целовать. Нет, не мне, я даже не думаю об этом. Ее губы заслуживают поцелуя кого-нибудь стоящего, а не такого бесцветного существа, как я, — тут у меня никаких иллюзий…
— Она тебе нравится, да?
Я вздрагиваю.
Это голос Эме, конечно, это он спросил.
Не уточняя, о ком это он, отвечаю «да, конечно». И, поскольку он молчит, добавляю: «Она симпатичная».
Она симпатичная… Открываю дверь, чтобы выйти из аптеки, а в голове эти слова. Не знаю почему, но в сказанном есть что-то грустное, бесконечно грустное. И тут я замечаю, что Сара здесь, рядом. Придерживаю дверь, пропуская ее вперед, и выхожу следом за ней.
Мы стоим на тротуаре, и, пока она со мной прощается до завтра, я ловлю ее взгляд.
Странно. Я слышу: «До завтра?» — со знаком вопроса. И, сам того не сознавая, отвечаю на этот ее вопрос — «нет».
— Сара, а сегодня… а сегодня у тебя найдется немного времени?
Она улыбается:
— Думаю, найдется… А что?
И тогда… получилось, как будто я тайком подготовил свою речь и отрепетировал ее. То, что произошло потом, не укладывается у меня в голове. Я говорю, что живу в двух шагах отсюда и не выпить ли нам по бокалу вина у меня дома, мне это было бы приятно.
А она… она, без минутного колебания, откликается такой же, словно бы давно готовой фразой:
— С удовольствием. Если у тебя есть время.
Есть ли у меня время? Раз я приглашаю ее к себе, значит, у меня есть время. Я отвечаю на вопрос, который она мне не задавала, но который я услышал. Говорю, что сейчас живу один, что моя дочь ненадолго уехала с матерью.
— А обычно дочка живет с тобой?
— До сих пор было так…
Тон у нее становится менее решительным, и моя решимость, кажется, тоже убывает.
— Ты… ты не женат?
— Уже почти не женат.
Я сказал слишком много или слишком мало.
Со свойственным мне занудством я пускаюсь в неловкие объяснения. Как раньше в школьных сочинениях, мне не удается раскрыть тему, но я говорю от чистого сердца. Говорю, что у нас с женой не осталось ничего общего, а думаю, но не говорю вслух: «Главное, любви». Говорю, что жена решила со мной развестись и это пришлось очень кстати, потому что быть с ней мне уже нестерпимо. Говорю, что снял обручальное кольцо не для того, чтобы считали холостяком, это символический жест. Говорю, что моя будущая бывшая жена хочет забрать у меня дочку и увезти с собой, далеко, очень далеко.

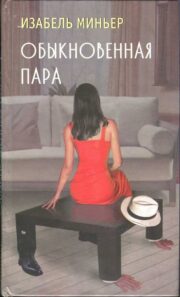
"Обыкновенная пара" отзывы
Отзывы читателей о книге "Обыкновенная пара". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Обыкновенная пара" друзьям в соцсетях.