У меня мелькнула религиозная мысль, такое редко со мной случается: а может, это Иисус кричит всякий раз, когда кто-то кричит? Потом другая мысль, безбожная: тогда пусть он заставит крики смолкнуть, потому что это в его власти.
Потом я перестал думать, и тогда до меня стало смутно доходить содержание монолога: Одиль потрясающая женщина, она очень несчастна с Орельеном, он заслужил все, что с ним произошло, детям в тысячу раз лучше с матерью, которая твердо стоит на ногах, в то время как он… Остальное тонет в сбивчивых словах, криках и воплях.
И вдруг — затишье среди бури, робко проглядывает солнце:
— Бенжамен, пойми, я очень люблю Одиль. Ладно, давай не будем из-за этого ссориться, какое нам, сказать по правде, дело… Не дуйся… Я не люблю, когда ты грустный, улыбнись мне…
Не знаю, может, я и улыбнулся; помню только, что она поцеловала меня в губы, и этот поцелуй был таким внезапным, что показался мне грубым.
Пока она читала сказку, я не стал рассматривать потолок, обойдусь без его предсказаний.
Я сослался на сильную головную боль и быстренько улегся в постель — почему бы, черт возьми, и мужчинам не дать право на мигрень? Не давать на нее права, если на то пошло, дискриминация.
— Ну так прими что-нибудь, Бенжамен! В конце концов, ты лекарствами или конфетами торгуешь?
— И тем и другим… Таблетку я принял, но если лягу — боль пройдет быстрее.
— Бенжамен, неужели ты собираешься спать, еще рано!
Я ответил уклончиво. Не слишком люблю снотворные, но глотнул бы сейчас таблетку… и все же смог устоять перед искушением.
И вот я под одеялом.
Мне хотелось бы заснуть до ее прихода.
До того, как она проскользнет ко мне в постель.
Я все еще не сплю.
А вот и она.
Я закрываю глаза и не шевелюсь, дышу тихо, ровно…
Я слышу, как она ложится, чувствую, как она прикасается ко мне. Я сонно бормочу что-то неясное и, повернувшись на другой бок, продолжаю притворяться спящим без задних ног.
Она дышит мне в ухо, прижавшись ко мне всем телом… Я сплю…
Ее руки трогают мое тело.
Сначала спину.
Я сплю.
Ее руки на моих ягодицах, на бедрах…
Я сплю.
Ее руки на члене.
Я все еще сплю.
Ее руки в движении, они шарят, они ерзают…
И этот послушный раб, мой член, повинуется ей и предает меня.
Я уже не сплю.
Я сонным голосом жалуюсь:
— Ты меня разбудила, я спать хочу…
— Ты спал? Нет, вы только посмотрите! Ты спал, а твоя волшебная палочка прямо сама так и подскочила и готова в бой? Ну надо же! Значит, хочешь спать? Как жаль! Знаешь, ведь эти штуки, они как батарейки: не пользуешься — сдохнет…
Атака продолжается потоком жутких непристойностей, просто уши вянут от такого, она их где-то нашла и к рукам прибрала — Беатрис читает много современных романов. Эти слова приводят ее в сильнейшее возбуждение: она тяжело дышит, стонет, садится на меня, берет мою руку, направляя ее куда ей надо и подсказывая, что делать:
— Вот так, сюда, сюда, давай…
Моя рука неподвижна — ее словно судорогой свело, пальцы окоченели, стали тяжелыми, как из дерева — вот из того самого цельного дерева. У меня рука статуи. Но ей это не мешает, сальности текут рекой, а потом следует фраза, которую она произносит всякий раз, когда я с моей никудышной рукой не справляюсь:
— Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам!
Она сбрасывает мою руку со стратегической точки.
Меня смущает ее возня.
— Теперь давай, Бенжамен, иди в меня, трахай же меня, трахай, бери меня всю, скорее, скорее!
Я говорю себе, что в этот момент многие мужчины хотели бы оказаться на моем месте. По идее, тело Беатрис соблазнительно…
Я говорю себе: не понимаешь ты своего счастья, такая красивая женщина, такая раскрепощенная, такая свободная…
Свободная…
Свободу нашим узникам… звучит у меня в голове, глухие удары, как будто мозг хочет выскочить из черепа… Это звучит, это стучит, свободу нашим узникам!
И я освобождаюсь.
Я высвобождаюсь, я вольно дышу, я наслаждаюсь своей свободой, своей легкостью… Без груза, который с меня снят. Свобода, равенство, братство. Занимайтесь любовью, а не войной.
— Что с тобой, Бенжамен? Тебе плохо?
— Да, плохо. Голова болит. Я не в состоянии…
— Ты не можешь так со мной поступить! Я готова, я вся горю, я…
— Мне плохо, голова раскалывается.
— Выпей таблетку, ты же не можешь вот так меня возбудить и бросить!
— Таблетку я уже выпил. Теперь надо поспать, и все.
Она вздыхает, проверяет, как там моя волшебная палочка, совсем уже не волшебная — одно разочарование.
— Глазам своим не верю! Ты что — нарочно это делаешь?
— Если бы… это от меня не зависит. Головная боль тоже. Мне надо поспать…
— Тогда спокойной ночи! А мне, как видишь, не до сна…
Она расстроена — по голосу слышно.
Я сделал ей больно — может, утешить ее?
Сказать ей, что она красивая и желанная?
А может, сказать даже так: я люблю тебя?
Но она уже встает.
Она уже выходит из комнаты.
А я уже чувствую, как пульсирующая боль в голове постепенно затихает, затихает… Свободу нашим узникам, занимайтесь любовью, а не войной, свобода, равенство…
Мои мысли уже путаются.
И с уже закрытыми глазами я вижу шествие: флажки, транспаранты, и за ними люди всех цветов кожи, и они, все вместе, громко поют: «Любовь, а не война…»
6
Нет!
Сегодня хозяин пригласил меня в ресторан. Иногда он приглашает меня пообедать, и это приятно. Такое развлечение — вроде воскресного обеда среди недели, вот только Беатрис думает иначе. Если она в хорошем настроении, то считает этот обычай устаревшим, называет поведение хозяина патернализмом и демагогией, в другое время ей просто противно. Фу, мерзость какая. «Опять! Опять эта обжираловка с жирной свиньей!»
Ну, во-первых, не жирный, а упитанный. А во-вторых, никакая хозяин не свинья, он, наоборот, очень даже человечный.
На этот раз он выбрал индийский ресторан. Ура, я боялся, что выберет итальянский, — пицца меня бы добила.
С утра Беатрис давала мне указания: «Воспользуйся встречей хотя бы для того, чтобы прощупать почву. Эта жирная свинья наверняка знает, продается ли поблизости аптека».
Я намекнул, что у моего начальника есть имя, она в ответ расхохоталась: «Если тебя зовут Эме[6], тебе положено быть симпатичным! Ну как я могу называть эту жирную свинью Эме!»
Беатрис — исключение: Эме все очень любят (клиенты, коллеги, его дети… и даже его жена). Я часто думаю, не кроется ли разгадка всеобщей к нему любви в его имени, и сержусь на своих родителей за то, что им не пришло в голову назвать меня так. Хорошо бы людям выбирать себе имя в зрелом возрасте — я бы выбрал это.
Мы сидели за столиком и мирно беседовали. Сначала я боялся, что он заведет разговор о продающейся аптеке, — с моей стороны было бы невежливо взять да и заткнуть уши в разгар обеда. Но речь пошла о другом: у Эме есть кузен, тоже фармацевт, и тому хотелось бы начать свое дело, независимо от родственника, но в наших краях.
— Бенжамен, дай мне знать, если услышишь, что продается какая-нибудь аптека.
— Обязательно.
Потом он — это была часть ритуала — спросил, как дочка.
— Отлично! Она такая живая! И уже научилась писать много слов, в детском-то саду! Правда, в выпускной группе…
Я осекся, вспомнив, что некоторые считают, будто гордятся своими детьми только дурачки, если не круглые дураки. Ну и пусть считают. Всегда гордился, горжусь и буду гордиться Марион, просто не стану кричать об этом на всех перекрестках. Перекрестки вообще место опасное… Да и не люблю я кричать, слишком много шума.
Если бы я был писателем, то один из персонажей моего романа обожал бы свою дочь и ужасно ею гордился. Я писал бы романы немыслимой нежности, и, читая их, люди думали бы: «Ну до чего же он трогателен, этот парень!» А уж женщины точно все как одна умилялись бы: «Ах, что за душка!» Это были бы слащавые, милые-премилые романы, пахнущие розами и фиалками…
Вздрагиваю: оказывается, у Эме ко мне еще вопрос:
— А Беатрис? Как поживает Беатрис?
— Э-э… хорошо.
Я не люблю врать. Во-первых, от этого становится не по себе, и потом… зачем осложнять себе жизнь, запоминая, что и кому соврал раньше… Ответить «хорошо» показалось мне компромиссом, очень подходящим для того, чтобы не вдаваться в подробности. Да и какую Беатрис он имеет в виду? У меня только одна жена, но в ней скрывается столько женщин…
Автору детских книжек живется лучше некуда. Для подруги Баранов и компании жизнь чудесна — а разве сама она не чудо? С точки зрения случайных прохожих, у женщины, идущей им навстречу, все в большом порядке — ведь она очаровательна! У мамы Марион дела идут неплохо, пусть даже иногда вещи не на месте и игрушки разбросаны. Жена Бенжамена чувствует себя хреново, поскольку ее муж-дурак ничего не понимает в жизни, не хочет покупать аптеку (хотя необходимость этой покупки очевидна), за что и будет наказан, как размазня Орельен, который эту кару заслужил, и ведь его предупреждали.
Поэтому мне кажется, что среднестатистическое «хорошо» здесь подходит.
Теперь Эме говорит о творчестве Беатрис. Он читал многие ее книги, и они ему понравились. Обращаю мимоходом внимание на то, что «Писи-каки» он не упоминает, но в остальном сыплет комплиментами. А мне чуть-чуть неловко. Если бы он знал, что она называет его жирной свиньей… Ох, взять сейчас да и сказать! Прямо на языке вертится. Нет, слава богу, это желание тут же и проходит: мне же хотелось наказать Беатрис, но, выдав ее, обижу его — я.
— Тебе нравится то, что делает твоя жена?
Смотря о чем речь… Я сомневаюсь, вспоминая Беатрис в постели. Я хмурюсь, вспоминая, как она кричит. Но, вспомнив Беатрис-писательницу и закрыв глаза на «Писи-каки» — нет в мире совершенства, — твердо отвечаю «да».
— Бенжамен… должен тебе сказать…
Он сменил тон. Немножко другой выбрал…
— Если я об этом говорю, то для твоего же блага…
Приехали! У меня инстинктивное недоверие к любому слову, произносимому для моего же блага. Хмурюсь и жду продолжения.
— Только не обижайся на то, что скажу. Ты же знаешь, я не просто так занудничаю, я хочу тебе помочь.
А я просил его помогать? Те, кто хочет мне помочь, куда больше помогли бы, если бы перестали стараться помогать.
— Бенжамен, ты замечательный фармацевт, ты знаешь, как я тебе доверяю и как рад, что с тобой работаю…
О господи! Разродится он сегодня или нет, в конце-то концов!
— Ты все это знаешь, но… но меня немного беспокоят… твои отношения с коллегами…
Что? Я чуть не поперхнулся. С коллегами? Я оказываю им всевозможные услуги, выручаю, подменяю, беру на себя трудных клиентов, звоню врачам с неразборчивым почерком, я… Чего еще им надо?
Глотаю застрявший в горле комок и прошу:
— Эме, пожалуйста, скажи прямо, в чем они меня упрекают?
— Они? Ни в чем! Их все устраивает. Это я… Я пригляделся к вашим отношениям и решил с тобой поговорить.
— Слушаю.
— Бенжамен, научись говорить «нет»!
— Нет!
— Хорошее начало, продолжай!
— Нет, нет, нет, нет, нет. Так подойдет?
Он улыбается — почти с нежностью. Беатрис сказала бы, что мерзее его не найти, кожей чувствую.
— Бенжамен, ты слишком добрый. В жизни так, конечно, лучше, но не в аптеке. Ты на все соглашаешься, и они этим злоупотребляют, они попросту тебя используют. Ты хочешь услужить, а они вытирают о тебя ноги. Научись говорить «нет».
Не очень-то я верю его словам… Ловлю себя на том, что кривлю губы в точности как Беатрис. Почему я везде вожу ее с собой?
— А этому можно научиться?
— К счастью, можно. Потренируешься — и получится. На сегодняшний день ты еще в это дело не втянулся, еще не привык отказывать и, когда хочешь сказать «нет», помаявшись, в конце концов соглашаешься — против своей воли. Я тут как-то наблюдал за тобой, когда тебя попросили отнести коробки на помойку. Ты не смог отказаться.
— Ну и что?.. Подумаешь, коробки выбросить, не смертельно!
— Да, но если все время уступать в мелочах, в один прекрасный день уступишь в главном.
Мне все больше и больше не по себе. До чего неприятный разговор… для моего же блага. Скорей бы он кончил читать мораль. Он не кричит, и на том спасибо, но еще немного — и мне почудится, будто я дома. Надо же, какой умный…

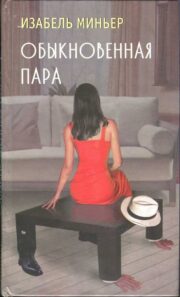
"Обыкновенная пара" отзывы
Отзывы читателей о книге "Обыкновенная пара". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Обыкновенная пара" друзьям в соцсетях.