— А как он проявлялся в искусстве?
Очередной обреченный вздох.
— Ну, если в двух словах, то присутствующая в мире красота «пробуждает внутренний образ души», как утверждал Микеланджело, подразумевая под образом душу, стремящуюся к своему божественному источнику. Физическая красота в искусстве отражает красоту души. И, разумеется, в основе неоплатонизма лежит любовь, божественная и мирская, две Венеры, два пути. Платон провозглашал любовь связующей силой для всего. Божественное являет себя в красоте. Любовь дар красоты, а значит, божественного. Поэтому в тот период очень много чудесных изображений обнаженной натуры — тело как внутренняя сущность. В природе тоже проявляется божественная парадигма, она открывает страждущему духу второй путь. В бессистемном на первый взгляд движении неизбежно обнаруживается скрытый порядок, гармония, совершенство. Довольно изысканно и мудро, вам не кажется?
— Значит, искусство Возрождения скорее духовное? Не только религиозное?
— Я бы сказал, оно стало более духовным, если вам так это слово нравится. Неоплатонизм предполагал более активное вовлечение — в отличие от средневекового ритуального поклонения Господу. Неоплатоническая душа стремилась вырваться из низости к ясности, трансцендентному единству и так далее. Взяв идею у язычников, христианизировав ее в какой-то степени, неоплатоники тем не менее возводили человека в абсолют. Божественное, ранее обитавшее лишь на небесах, теперь становилось неотъемлемой частью окружающего мира. Живописцы силились проникнуть в священную парадигму и запечатлеть то, что удастся подглядеть. Вот вам, пожалуй, и весь вводный курс по неоплатонизму для девушек. Ха-ха. Надеюсь, список литературы вам не нужен? Боюсь, его вам будет осилить трудновато.
— «В прекрасном — правда, в правде — красота, вот все, что знать вам на земле дано»?[31]
— Примерно так. Независимо от того, что говорил Шелли.
Шелли?
Мы дошли до «La Tempesta». Люси бросила полный ужаса взгляд на «Il Vecchia». Забавно, подумала я. «Старуха» ведь на самом деле куда моложе Люси — жизнь тогда была суровая, а Люси такая сияющая, по-прежнему красивая, с горящими глазами, с девчоночьим кокетством и еще вполне способна кружить головы. Col tempo… Либо эта надпись еще более многозначна, чем может показаться, либо Люси — очень удачное воплощение божественного.
— Предполагают, что это мать Джорджоне, — прокомментировал Ренцо.
— Ренцо, о чем эта картина, как ты думаешь? — поинтересовалась Люси, обращаясь к предмету нашего основного интереса. — Она такая захватывающая и таинственная.
— Ну, дорогая моя, кто же может знать? — ответил профессоре. — Мнения расходятся настолько, что даже скучно. Сам Джорджоне, по сути, призрак. Я бы сказал, тут на редкость непостижимая аллегория.
Ренцо обрушил на нас целый ворох теорий — мифологию, философию, пасторально-поэтические коннотации, герменевтический символизм…
— Очевидны буколические мотивы, — продолжал он, — классические, разумеется, многогранные смыслы, замысел художника — кто в него проникнет? Меня здесь, прежде всего, восхищает необычность, эта неземная атмосфера — кардинальная структурная перестройка. Предположительно, таких пейзажей с людьми на фоне была целая серия, не дошедшая до нас. У Микиэля[32] они упоминаются, но мы их не видели. А возможно, тут приложил руку Вендрамин, именитый заказчик и покровитель Джорджоне, высказавший определенные пожелания насчет сюжета картины. Мир полон тайн, которые нам не суждено разгадать, и эта картина принадлежит к их числу.
— Эта картина берет за душу, — призналась Люси. — Столько лет ее не видела… Люди на переднем плане будто в другом измерении, верно? Словно не ведают, какая гроза вот-вот разразится у них за спиной. Мне кажется, тут множество отдельных миров. Даже в деревьях и то бурлит какая-то своя жизнь, все откликается, все живет. А вода! Это не сон, это скорее видение, так мне всегда казалось. Волшебный свет. Великолепная полускрытая луна — это ведь луна? Я и забыла, какое чудо эта картина. И эта красавица в легкой накидке.
— Да, именно, — согласился Ренцо. — Лорд Байрон тоже восхищался этой особой, написал о ней другу — неудивительно. Ха-ха! Все, дамы, время поджимает, нам надо еще посмотреть великого Веронезе и прихватить Тициана с Тинторетто, чтобы стало ясно, что происходило дальше с нововведениями вашего Джорджоне. А ловелас он был большой, это да. Заразился чумой от любовницы. Некоторые считают, что это ее он здесь и изобразил, Чечилию, но, впрочем, не важно. Пойдемте дальше.
Переглянувшись, мы с Люси двинулись за ним.
За незабываемо изысканным обедом, который Люси устроила в «Баре Гарри», любимом заведении Ренцо (приятно было наблюдать, с каким почтением отнеслись к ней циничные официанты, начисто проигнорировавшие в свое время нас с Энтони), мы сперва разговаривали о всяких пустяках, но потом Ренцо поинтересовался фреской, снова отозвавшись о ней как о шедевре. Люси ответила, что работа продвигается и что очень скоро нам понадобится его экспертное мнение. Профессоре, кажется, удовлетворился и больше вопросов не задавал.
Люси и Ренцо снова вспоминали детские годы — единственное, как мне кажется, что их связывало. Из всяких косвенных намеков постепенно выяснялось, что Ренцо всегда был влюблен в Люси и считал, что в один прекрасный день она выйдет за него замуж. Насколько Люси отвечала ему взаимностью, понять было сложно. Люси не особенно поддерживала тему. Мне показалось, он вбил себе в голову, возможно без всяких на то оснований, что они созданы друг для друга, поскольку выросли вместе. Когда в эту идиллию вдруг ворвался Альвизе и мгновенно завоевал Люси, Ренцо уехал в Англию — молодой, страдающий от несчастной любви, обозленный… В «долгую ссылку», как он сказал. Он остался холостяком, но обрел огромный научный вес, получил кучу званий и регалий и в довершение всего — кафедру в престижнейшем университете. Ему явно доставляло удовольствие поддразнивать Люси этой вымышленной изменой. Как-то по-женски. Не думаю, что она хоть когда-то рассматривала профессоре в качестве кандидатуры, пусть он даже неплох собой и прячет под всей этой напыщенностью и авторитетом чуткое любящее сердце. Вряд ли он продолжал питать на ее счет какие-то надежды и хотеть чего-то, кроме почтения и проливающих бальзам на душу угрызений совести. Похоже, в этих своих хоромах при клубе Ренцо вел весьма насыщенную личную жизнь, которую ни на что бы не стал менять. Люси сумела легко и непринужденно приправить изысканный обед и комплиментами, и оправданиями. Профессоре был польщен, мы приятно провели время. Ренцо у нас в кармане. Женщины справились. Я внутренне ликовала, пока не услышала последнюю реплику профессоре, поднимавшегося из-за стола. Он хочет выступить в клубе с докладом под названием «Неизвестные шедевры. Сенсации бесконечны?» Ха-ха! Он надеется, что мы придем. Приводите Маттео, ему понравится.
— Что ему известно? — спросила я, не сбавляя поспешного шага, как только мы остались с Люси вдвоем.
— Не знаю.
— Рональд?
— Нет, наверняка нет. Ни в коем случае нет.
— Сделал выводы из увиденного в тот раз?
— Не знаю. Он чует, что дело движется. Подозревает нас. Он умен и расчетлив. И проницателен. А мы все время о Джорджоне.
— Может, хочет застолбить? Так, на всякий пожарный?
— Не исключено. Жуткий человек. Он видел, как напрягается Маттео. Знает, что другие специалисты приходили и заинтересовались. Ему многое известно. Боюсь, я совершила ужасную ошибку…
— Но без него не было бы ни Лидии, ни Рональда. Он не в курсе насчет писем и дневника. Он не видел ларец! Значит, он может опираться только на домыслы. Пугать нас, делать вид, что опережает. Но все самое важное у нас. Он думает, что фреску нарисовала монахиня.
— Наверное.
— Маттео расскажем?
— Конечно. Да, думаю, ты права, этот доклад нужен ему лишь для того, чтобы потешить самолюбие, иначе он делал бы его не в клубе. Ох, надеюсь, мы справимся сами. Жуткий тип, лишь бы все испортить.
— Мы под давлением, Люси.
— Дорогая моя, это просто бомба замедленного действия.
Она взяла меня под руку, и мы решительным шагом направились домой.
Поутру Джулиана неохотно уселась за компьютер. Дневник будоражил душу, всю ночь ей снились беспокойные, зовущие сны. Ей было не по себе, но перевод, хочешь не хочешь, доделывать надо, а до конца еще далеко. Как странно сознавать, у них с этой девочкой на двоих одна Венеция, только Джулиана уже перестала замечать окружающую красоту, превратила свою жизнь в беспросветные серые будни. Ей нет еще и тридцати. О чем она мечтала, чем хотела заниматься? Так много всего. «Пусть что-нибудь случится, — пробормотала она. — Хоть что-нибудь. Чума на тебя, Лидия». Она включила люминесцентную подсветку.
10 ноября
Он приходил сюда. Он не только сладкоголосый певец, но еще и художник. Его зовут Дзордзи, и он будет работать в мастерской. Для Винченцо это большая честь, он говорит, что Дзордзи набирает популярность. Они познакомились сто лет назад в мастерской мессира Беллини. Винченцо говорит, на его счету замечательный запрестольный образ, религиозные полотна, портреты дворян и, что гораздо занимательнее, миниатюры на холсте и дереве, пейзажи, обычно с людьми, которые знать заказывает для своих коллекций. Там не религиозные мотивы, они написаны на древние сюжеты и учения, содержащие, по словам Винченцо, систему, позволяющую приблизиться к совершенству вселенной.
Я не до конца понимаю, что он имеет в виду, но я видела пейзажи Дзордзи — они завораживают и полны тайн. Как ему удается сделать их такими? Я спросила у Винченцо. Он отшутился, что Дзордзи видит все насквозь, он колдун. Вот бы и мне это постичь. Я тоже хочу видеть насквозь, поэтому подглядываю за работой Дзордзи — стараясь держаться как можно тише и незаметнее. Он пишет быстро, проворно, полотно меняется с каждым мазком; его метод трудно уловить. Он добр ко мне, хвалил мои рисунки, предлагал помощь, называет умницей и сметливой ученицей. В разговорах с Винченцо прозвал меня в шутку Клариссима Неожиданная. Сперва я перед ним невероятно робела. Он окружен почетом и восхищением, а я вспоминаю свой сон и краснею каждый раз. Но теперь я к нему уже привыкла и могу разговаривать с ним как все, даже пошутить. Но когда он подходит ближе и становится рядом, мне приходится сильно стискивать руки, чтобы унять дрожь. Поднимаю глаза от работы и вижу, что он на меня смотрит. Он улыбается и дурашливо взмахивает кистью — а иногда просто улыбается. Трудно сосредоточиться. И я едва осмеливаюсь называть его Дзордзи. Как же глупо я, должно быть, выгляжу. В мастерской посмеиваются и судачат, что за ним охотятся знаменитые красавицы и выдающиеся умницы. Он пользуется большой известностью. Не хочу показаться простушкой и дурочкой.
Джакомо здесь тоже бывает и иногда пишет с нами вместе. Он оказал мне небывалую услугу. Выступил моим заказчиком! Заказал написать портрет Таддеа. Какая будет радость! Я снова смогу работать в монастырском доме. Попробую вглядеться в Таддеа и увидеть ее насквозь. Ей будет смешно. Жаль только покидать мастерскую, пусть даже ненадолго.
21 ноября
Жизнь здесь течет своим чередом. Донна Томаса, по-моему, настоящая святая, если такие вообще бывают на земле — мудрая, прекрасная, милосердная и остроумная. Она вознесется на небеса, как святая Чечилия, — в фанфарах и славе. Вряд ли этим девочкам, среди которых у меня есть хорошие подруги, легко смириться с этим затворничеством (хотя мне говорят, что не такое уж оно и затворничество), но они избраны донной Томасой и приобщаются к добродетели и знаниям. Я знаю, потому что жила среди них и мне это пошло на пользу. Я обязана ей собой и своей жизнью, но все же не хочу искать судьбу в монастыре. Донна Томаса все равно меня любит. Таддеа приходит каждое утро, и мы принимаемся за работу. Ей трудно удержаться от бесконечной болтовни, но я требую, чтобы она сосредоточилась на самых сокровенных мыслях. Она старается изо всех сил, и у нее неплохо выходит, но потом в ней словно пузырь какой-то растет, и я знаю, что он вот-вот поднимется на поверхность, лопнет и рассыплется громким хохотом над нашей серьезностью. Пока я довольна результатами. Временами к нам приходит донна Томаса, сидит тихо и никаких замечаний не делает. Но, судя по улыбке, ей нравится.
16 декабря
Сегодня вечером я увижу Дзордзи. Две недели назад, когда у Базеджо праздновали обручение Меа, я впервые повидалась с ним за пределами мастерской. В свет меня выводит Винченцо. Нукка недовольно кривится, но не перечит — пони сделали свое дело. Мы с Дзордзи столкнулись в толпе и, увлекшись беседой, не заметили, как дошли до отдельной залы. Я уже освоилась и разговариваю с ним без трепета, а он заводит со мной беседы о природе живописи и поэзии. Мысли его глубоки и сложны. Ничто не стоит на месте, говорит он, ясность — дитя не разума, но интуиции. Всем правит свет. За работой он часто угрюм и суров, но в тот вечер он был в веселом расположении духа и смешил меня забавными рассказами. В конце концов, мы добрели до маленькой библиотеки и уселись на длинную скамью у пылающего камина. Я вдохнула аромат его тела. «Клара, — сказал он, пристально глядя в огонь, ты меня поражаешь». Я сперва растерялась, но потом нашла слова. «Ты меня столькому научил, Дзордзи, я счастлива, что ты доволен». «Да, — ответил он, — ты моя вдохновенная ученица». Потом повернулся ко мне, наши взгляды встретились, и комната вдруг закружилась. Он заметил мое замешательство и взял меня за руку. Из коридора донеслись голоса, и мы тут же отскочили друг от друга. А когда голоса удалились, он рассмеялся: «Записной гуляка, тоже мне!» Я в недоумении обернулась, ноги подкашивались от волнения. Он подошел вплотную. «Клариссима, — сказал он, — светлый ангел». Поцеловал меня в лоб и отвел обратно в залу. Я, конечно, дурочка. Он герой, а я простая земная тварь, ученица.

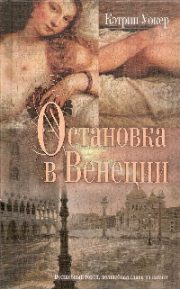
"Остановка в Венеции" отзывы
Отзывы читателей о книге "Остановка в Венеции". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Остановка в Венеции" друзьям в соцсетях.