20 декабря
Сегодня в студию приходил необыкновенной красоты и благородства молодой человек. Винченцо и Дзордзи окружили его теплом и заботой. При виде меня он удивленно распахнул глаза, все трое засмеялись, и я, зардевшаяся, была представлена ему как местная диковинка. Я смекнула, что он, должно быть, из какого-нибудь общества, в которых числятся мой брат и мой учитель. Я об этих обществах почти ничего не знаю, поскольку основной их смысл в наставлениях и развлечении молодых холостяков. Винченцо всей душой предан своему братству, но посещает также собрания в благородных домах, посвященные чтению и обсуждению сочинений и стихотворений, дошедших до нас из древности. Дзордзи тоже там бывает, они разговаривают об этих собраниях между собой. Дзордзи рассказал мне про сообщество молодых дворян, которые ставят спектакли и маскарады на пасторальные темы, доставляющие ему большое наслаждение. Как скучна девичья жизнь… Молодой человек просидел в мастерской несколько часов, за это время мой учитель успел набросать его благородный профиль. Волосы у него до плеч, как у Дзордзи, — это галантный стиль, Винченцо его не приемлет. После его ухода Дзордзи сделал на холсте ярко-розовую подмалевку для костюма. Очень смелый и непривычный цвет. Какая завидная свобода! Если не считать нескольких выходов в свет, я каждый вечер исправно возвращаюсь в тюрьму. Невозможно представить, чтобы такой человек, как Дзордзи, питал что-то, кроме снисходительного добродушия, к такой непримечательной святоше, как я. Но все-таки, кажется, я ему нравлюсь.
31 декабря
Столько всего произошло за эти счастливые месяцы, что я чувствую сейчас настоятельную потребность поразмыслить над этим калейдоскопом, который, как и прочее на земле, еще провернется и сгинет навек. Я хочу запомнить эти дни навсегда. Я начала год несчастным ребенком, а теперь, Божьей милостью, я более не несчастна и, думаю, уже не ребенок. Работы мои качественно и существенно выросли; непреходящее вдохновение побуждает меня творить, и я усердно и благодарно творю. Самым удачным произведением мне кажется портрет Таддеа. Джакомо вручил ей этот подарок, когда мы собрались на Рождество в гостевой монастырского дома. Были все: родные Таддеа, донна Томаса и Винченцо. Таддеа испекла вкуснейшие пирожки. Даже сердце щемит от подружкиной радости. Когда Джакомо протянул ей портрет, она рассмеялась и вернула его обратно со словами, что и так знает, как выглядит. Все восхищались сходством и передачей образа. По-моему, в нем чувствуется дух, который учил меня искать мой наставник, есть свежесть и осязаемость. В мастерской Винченцо и остальные меня тоже хвалили. «Вот видишь? Видишь?» — многозначительно воздев указательный палец, сказал Дзордзи. Это «видишь» он все время бормочет, когда учит меня. Оно обрело для нас особый смысл, означая теперь, что я должна присмотреться, понять, как форма создается не только внешним, но и внутренним светом, задействовать внутренний взор. Надеюсь, я даю ему повод для гордости. Все мои старания — ради него. Никто не сравнится с ним по гениальности и доброте. Он чудо. Но и на мою долю перепало свое чудо. Он любит меня! Он сам мне признался. Я не представляю, как такое возможно. Это было рождественской ночью, самой святой ночью в году. Винченцо устроил званый вечер — он теперь самый настоящий глава семьи и дома. Уступчивость Нукки меня настораживает, но, слава богу, мне теперь хотя бы не надо сидеть с ней целыми днями. Гостей пришло, по меньшей мере, человек пятьдесят, был пир горой и песни, Дзордзи аккомпанировал на лютне. Мы веселились от души, а около полуночи собрались праздновать на пьяццу — там будет мороз, много музыки, пылающие факелы, как в прежние годы, когда нас туда водил папа. Я метнулась к себе в комнату взять самый теплый плащ и пожелать Тонзо спокойной ночи. А когда спустилась вниз, меня ждал только Дзордзи. «Счастливого Рождества, Клара», — тихо сказал он, закутывая меня в плащ. Как всегда рядом с ним, я взлетела на гребне теплой волны и, не успев опомниться, оказалась в его объятиях, его губы отыскали мои, и я, кажется, умерла и вновь, непонятной милостью, о которой не смела и мечтать, воскресла. Как рассказать об этом? Мы вдыхали какой-то другой эфир, крепче и слаще воздуха, неведомый мне доселе. Простояв так несколько минут, мы вышли из дома и слились с праздничной толпой. Я не чуяла ног под собой. Поравнявшись с Винченцо и мальчиками, мы долго гуляли вдоль набережной, разгоряченные весельем и отличным настроением. Неужели действительно была эта ночь? Я все время боюсь проснуться и понять, что мне все эти чудеса приснились. С тех пор я его еще не видела, сейчас праздники, мастерская закрыта. Даже страшно от этого счастья, переливающегося через край. Боже, спаси меня, и пусть это все будет наяву.
10 февраля 1506 года
Какое счастье! Мы не открывались никому, даже Винченцо, но брат знает меня слишком давно и хорошо, поэтому наверняка заметил, что я сейчас веселее и живее, чем когда-либо на его памяти.
15 марта
Не хватает времени записывать. Я хочу запечатлеть каждый миг своего блаженства, но жизнь поспешно влечет меня дальше. При мыслях о завтрашнем дне все внутри волнуется. Я бросаюсь на постель и изливаю душу Тонзо, пока изможденное сердце не сдает и я не проваливаюсь в сон.
И все же я просто обязана записать, что Z работает сейчас над многотрудным, но прекрасным полотном, где будут изображены три мудреца, стоящие и сидящие под сенью дерев у темной пещеры. Картину заказал для своей коллекции мессир Контарини, он очень богатый и просвещенный заказчик. Z говорит, что мессир Контарини разбирается в античных философских учениях и желает наслаждаться аллегориями разных ипостасей этой древней мудрости, изображенными в виде старцев перед знаменитой пещерой Платона. Z набросал эскиз, но с тех пор уже успел внести изменения, картина преображается ежедневно. У одного из старцев была корона в виде солнца — меня она приводила в восторг, но теперь ее уже нет. Картина впечатляет — прежде всего, контрастом темной пещеры и лучезарного солнца, восходящего из-за дальней горы. Оно возникает, как говорит Z, словно величайшее благо, творец жизни. Композиция у него очень сложная и наполнена символами. Вся мастерская только и говорит об этой картине, споры не смолкают, и каждый, по-моему, хочет выделиться. Все пытаются его копировать, но ни у кого не выходит. Я же скромно признаюсь самой себе, что, по крайней мере, в технике я ближе к моему учителю, чем кто бы то ни было в нашем кругу, и стремлюсь постичь мир так же, как он.
Мне представляется портрет Z в образе Орфея, но я не осмелюсь его написать. Из монастырского дома поступило два заказа: портреты Меллы и Ненчии. Хоть я и чувствую в себе перемены, побывать среди подруг было великим удовольствием.
Меллу я изобразила в ее одеянии и апостольнике, она такая серьезная, вдумчивая, все говорят, что в один прекрасный день она станет аббатисой. Донна Томаса от нее в восторге, дает ей частные уроки. Ненчию я написала в образе Примаверы, весны. Надеюсь, получилось не слишком вызывающе. Что поделать, я вдохновляюсь смелостью своего учителя. Ненчия юна и прелестна, как нимфа. Я вплела ей в волосы весенние цветы, а ее саму поместила на фоне розовой утренней зари. Ей всего двенадцать, но какой юноша сможет перед ней устоять? Кажется, у нее есть сестры, такие же прелестницы, как она, бедняжка. Донна Томаса с ней особенно ласкова, угощает ее сластями. Таддеа говорит, девочка рыдает по ночам.
A Z? Что сказать о нем? Он нежный и любящий. Я жду, что он устанет и разочаруется, но этого не происходит. Гнетет то, что нам никак не удается побыть вместе и тем более наедине. Когда мы в разлуке, я гадаю, где он может быть. Верю, что он не отходил бы от меня, будь на то наша воля, но меня держат в четырех стенах. Даже Винченцо не в силах помешать. Нукка не пускает Z в дом, кроме как в толпе гостей, — она считает художников отребьем и не намерена осквернять свое жилище. Винченцо — другое дело, он благородный. Она считает его работу простым увлечением и вынуждена уважать его как наследника. Я никогда не прощу ей, что она допекла отца. Он в своем мягкосердечии видел в ней только прелестную вдовушку. А сейчас она мерзкая толстуха, сварливая и лживая, только и ищет, где бы напакостить. Спит и видит, как упрячет меня в монастырь, чтобы папино наследство досталось ее дочкам. Она жаждет приобщиться к кругам знати, но с чего бы им ее принимать? Я не такая благодушная, как Винченцо. Я ее боюсь.
Тонзо уснул. Доброй ночи, моя любимая зеленушка.
Мы собрались в комнате с фреской. За исключением Лидии, ахнувшей при входе, все молчали. Аннунциата расставила стулья в ряд напротив стены, и мы расселись, словно гадая, зачем нас позвали всех вместе. Отрешенный взгляд девушки устремлялся куда-то вдаль, поверх наших голов.
— Гм… — протянул Рональд, прерывая молчание. — Головоломка. И действительно, необычайно прекрасная. По-моему, это все же не он, по крайней мере, в первом приближении, хотя характерных черт много: напряженная атмосфера, великолепный свет, идиллический пейзаж и эта прелестная загадочная особа, устремляющаяся к нам. Но что-то тут не сходится, хотя пока и непонятно, что именно. Если сюда привести десять экспертов, пять скажут «нет», двое скажут «да», а остальные припишут фреску раннему Тициану.
— Тогда скажи, что тут «не его», — попросила Лидия.
— Мнение специалиста? Композиционная концепция, по-моему, сильная, но не дерзкая. Палитра менее резкая, не такая пылающая, однако это ведь фреска.
Может, просто ранняя работа, а может, произведение наблюдательного и одаренного ученика. Но тут, на мой взгляд, отличие скорее психологического характера. Женщина в «La Tempesta» смотрит на нас из глубин созданной изображением ауры. Когда наш взгляд добирается до этой Венеры, она вообще уже на нас не смотрит, погруженная в собственные грезы. Там, в «Буре», персонажи воплощают некий, я бы сказал, внутренний взор. А здесь, я не знаю — она, кажется, уводит нас своим взглядом прочь из того мира, который находится за ее спиной. Совсем не похоже на его погружение в себя. Она не столько обозначает субъективное состояние, сколько представляется независимой сущностью, вырывающейся из контекста. Но, по-моему, это невероятно — ее словно влечет из Аркадии какая-то неодолимая будущность — другого слова подобрать не могу. Это само по себе довольно ново для такого пасторального идиллического антуража. Но тут я полагаюсь исключительно на интуицию. Многие, как я уже говорил, со мной наверняка не согласятся.
— Она как будто выходит за рамку, — подтвердила я. — Я понимаю, о чем ты. Шаг вперед…
— А лев? Что насчет него? — поинтересовалась Люси. — Ему неважно, что она там видит, ему важна она сама. Может, он просто не в силах разглядеть то, что видно ей? Неужели она его с собой не возьмет?
— Маттео, — Рональду вдруг пришла в голову неожиданная мысль, — а ты знаешь «Тарокки» Мантеньи?
— Конечно, — отозвался Маттео. — Чудесные гравюры, которые на самом деле не имеют отношения к Мантенье.
Маттео явно расстроился, но уже воодушевлялся снова. В конце концов, Рональд сам сказал, не все разделят его точку зрения, так что как знать, к чему мы придем.
— Это серия аллегорических персонажей, — разъяснил Рональд Люси. — Неоплатоническая эзотерика, музы, небесные тела, главные добродетели и тому подобное. Они послужили прототипами колоды Таро, изобретенной позже в том же веке. Многие образы остались неизменными и сохраняются, по-моему, по сей день — я в Таро не особенно разбираюсь, а вот в Мантенье — да.
— Колода Таро? — воскликнула Люси. — Я видела эти наборы, там попадаются рисунки необыкновенной тонкости и красоты. Несколько лет назад тут проводилась восхитительная выставка.
— Так вот, — продолжал Рональд, — все главные добродетели представлены женскими образами в сопровождении символов-эмблем и животных-спутников. Так, карта стойкости — Фортецца — изображает женщину в древнегреческом одеянии рядом с ломающейся колонной и рядом с ней — льва. Лидия, ты в них разбираешься лучше меня. Я не очень помню толкования карт Таро.
— Ну, я тоже не большой специалист, — ответила Лидия. — Эта карта означает мудрость или силу духа, побеждающую инстинкты. Сродни святому Иерониму, укрощающему льва. Похоже на аллюзию к нему, уж слишком напрашивается.
— Насчет «Concert Champetre», «Сельского концерта», который когда-то приписывался Джорджоне, потом Тициану, а теперь снова вроде бы возвращается к Джорджоне, — развивал мысль Рональд, — существует коллективное мнение специалистов, что две обнаженные женщины и два одетых музыканта, наслаждающиеся музыкой на косогоре, в совокупности призваны изображать музу поэзии. У них ее символы — флейта и ваза, такие же, как в «Тарокки», поэтому, подозреваю, гравюры в то время были в ходу. Образованные люди о них знали. Я практически не сомневаюсь, что «Концерт» написал Джорджоне — он, в конце концов, сам был музыкантом. Музыка с поэзией тесно перекликаются и даже в каком-то смысле соревнуются. Такое соперничество между разными видами искусства тогда было очень популярно и сильно занимало Джорджоне. Живопись против скульптуры, поэзия против живописи и так далее. Он любил сложности.

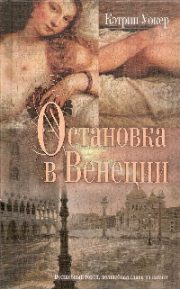
"Остановка в Венеции" отзывы
Отзывы читателей о книге "Остановка в Венеции". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Остановка в Венеции" друзьям в соцсетях.