День стоял прохладный, напоенный солнцем, люди вокруг жили своей жизнью, не подозревая, какой историко-культурный катаклизм мы собираемся на них обрушить. Я отлынивала от дел — самое приятное занятие в мире.
Церковь оказалась огромной, гулкой, заполненной вычурными изваяниями. Обнаружив краткий путеводитель, я двинулась по нему. Слева — могила Кановы. Кто такой Канова, я так и не вспомнила, но пирамидальное надгробие, элегантное, стильное, на фоне всех этих резных завитушек вокруг, мне понравилось. Впереди за хорами, перегораживающими главный неф, над алтарем красовалось огромное полотно Тициана «Вознесение Девы Марии», плотно заполненное людскими фигурами. С моими скудными познаниями в живописи сложно было бы сказать, на чем строилось его великолепие, да и не трогали меня такие полотна, однако великолепие, несомненно, присутствовало. Я, не задерживаясь, двинулась обратно по параллельному проходу и там, напротив Кановы, наткнулась на массивный памятник Тициану — холодный и бездушный, как фасад, украшенный скульптурами. Интересно, Рональду бы понравился? Не чувствуя ни малейшего отклика в душе, я с радостью выбралась из этого склепа на яркое солнце.
Пропустив первый завтрак, я намеревалась не пропустить хотя бы ланч, но обилие света и воздуха располагало к прогулкам. Однако я сдержалась. Пустившись по карте в обратный путь и двигаясь по лабиринту улочек на север, я вдруг заметила краем глаза табличку в окне облупившегося дома. «CHIROMANTE» — гласила она, а чуть пониже для туристов следовала приписка: «Чтение мыслей. Таро. Гадания по ладони». Таре. Надо нам с Лидией прийти сюда и выяснить, что означает карта Клары, а заодно — что готовят нам наши собственные судьбы. Загадочная ты натура, Нел, — церковь не признаешь, зато собралась всецело положиться на какую-то шарлатанку. «Но мы ее даже еще не видели, — возразила я сама себе, — вдруг она и впрямь отличная пророчица». Я определенно предпочитаю интуицию доктринам. Как знать, а может, она неоплатонистка? Я кое-как нацарапала адрес.
Местность стала узнаваться. Тициан ведь был протеже Джорджоне, если я не ошибаюсь. Кажется, Рональд говорил. Теперь Тициан лежит под своим вычурным надгробием — Тициан, присвоивший лавры Джорджоне… Да, он и сам гений, без сомнения; он и сам вознесся на вершину славы. Он прожил жизнь, всё приписывают ему, он возвышается монументальной глыбой. А где похоронен Джорджоне? Где его памятник? Он был оригиналом, новатором, гением-первопроходцем. И никакой дани уважения? Может, все дело в том, что он никого не обогатил, — будь он британцем, его бы не сделали сэром Джорджоне. Что стало с его телом? Чумные трупы ведь, наверное, сжигали?
А Клара? Если его потеряли, то ее просто уничтожили. Закатали под штукатурку, заперли в сундуки, развеяли. Совершенно нелогичные исходы. Клара еще ладно, тут более-менее предсказуемо. А он-то почему? Не менее знаменитый в свое время, чем да Винчи, окруженный таким же восхищением. Такое чувство, что некоторых заносит в какое-то совершенно другое русло истории — застоявшееся и невостребованное, потому что… Почему? Потому что нет практической пользы?
Жизнь со звездой (пусть даже без особого к этой жизни приобщения — нет, мне доставались и внимание, и хвала, но не такие глянцевые, не такие прибыльные) о многом заставляет задуматься. И времени на раздумья у меня было предостаточно. Впечатление о притягательности звезд обманчиво — и это как раз неудивительно, для меня неожиданным оказалось другое: именно они определяют, что должно считаться притягательным. Потому что они успешны. Иными словами, богаты и популярны. Они победители.
Я вспомнила, как однажды — не знаю, чем был вызван этот образ — мне представился черный поток, бегущий параллельно реке истории. Он широкой темной лентой струился вдоль иллюстрированной линии времени — такой аккуратной безапелляционной линеечки, на которой выстроились портреты и даты, которые надо помнить. Кто их туда определил? Историю пишут победители и все такое… Но этот черный поток! Это было откровение. Даже не столько черный, сколько глубокий и бездонный — в него попадают все наблюдатели и прохожие, сомневающиеся, циники, жены, проигравшие, замкнутые, надменные, разочаровавшиеся, слишком серьезные, мелкие посвященные, те, кому опротивело, и те, кто дошел до ручки. Другие. Забытые и заброшенные. Незаметные свидетели. Поток намного превосходил по ширине линию времени.
На самом деле все не так удручающе, как кажется. Меня успокаивало это огромное собрание искренних, возможно, даже остроумных скептиков — в большинстве, естественно, женского пола, — которые столетиями наблюдали со стороны и все понимали без руководящих указаний. Я представляла выражение их лиц. Свидетели. Безвестные свидетели, на большее, чем снисходительная улыбка или приподнятая бровь, не раскошеливающиеся. Если не дойдут до белого каления. А если не дойдут, то живут той жизнью, которой вынуждены жить, находя утешение в чем получится: в детях, в растениях, в животных, в музыке, в собственных мыслях. А еще непредсказуемость. Как сказал один умный приятель, «ты ничего не понимаешь в жизни, пока кто-то из твоего поколения не отхватит главный приз и тебя не дернет: как? ему?!».
Отчего я вдруг вспомнила? Решила, что Тициан менее гениален и велик, чем Джорджоне? Рональд бы поспорил, да и кто я такая, чтобы судить. Я думала только о сгинувших, о тех, кому не поставлено памятников. И среди них наверняка множество таких, как Джорджоне и Клара, которых Маттео называл просвещенными, иллюминатами. История повернулась к ним спиной — а даже если и лицом, все равно выиграл или выжил кто-то другой, а они пропали, что-то произошло, и с ними ушла частица другой жизни той же эпохи. Вот Рональд говорит, что существование Джорджоне вообще ставится под сомнение. А сколько еще таких? Фантомы, как их назвал Ренцо. Этот поток — параллельная жизнь, бурлящая под спудом, проницательная, осведомленная, не исчезнувшая до конца, но и не вспоминаемая, по-своему вечная. Утешительная.
— Переводчица прослезилась, когда читала, — передала я Люси.
— А у нас для тебя новости.
Перед Лидией высилась стопка книг и бумаг.
— Что это? — спросила я.
— В общем, — начала Лидия, — ты оказалась права. Там был маленький кружок, человек двенадцать — пятнадцать. Вроде художественной студии под руководством донны Томасы — помнишь, она была в записях у Таддеа? Еще говорила, что с Кларой никто не сравнится. Она руководила скрипторием и сама рисовала — миниатюры, запечатлевающие значимые события в жизни монастыря. Мы нашли наброски, видимо, для хроники, которая, наверное, предшествовала этим страшным записям от тысяча пятьсот девятнадцатого года. Очень неплохие, надо сказать, наброски. Донна Томаса происходила из рода Гримани — благородного просвещенного гуманистического семейства, а в монастырском доме устроила что-то вроде академии для избранных (в число которых попала и Таддеа) под видом переписывания манускриптов для Ле — Вирджини — впрочем, они и этим занимались. Лишений не знали. Судя по записям, они отменно питались, им привозили много вина, покупали книги и канцелярию, они даже заказывали картины. Там интересные имена всплывают. Они наблюдали и учились. Все всерьез. Избранные ученицы Ле-Вирджини. Клара тоже принадлежала к этому кружку, хотя и не приносила клятв. Ее имя есть в списках проживающих, но с маленьком пометкой. Думаю, что-то вроде почетного членства.
— И?
— Вообще-то Клара жила здесь в тысяча пятьсот седьмом году — она упоминается, а к тысяча пятьсот восьмому упоминаний уже нет, а потом в тысяча пять сот десятом она снова тут. Это вроде хроники, не дневник. Может, там еще есть, это пока все, что я нашла, но Клара Катена определенно была здесь своей.
— И ей отвели комнату? — спросила я.
— Дом большой. А их было только двенадцать.
— Кажется, здесь она находила пристанище — тихую гавань, — предположила Люси.
— Да, — согласилась Лидия. — Надежный приют, полный подруг, жизнелюбивых, образованных, благородных девушек. Кто их исповедовал? Наверное, за исповедью они ездили на остров. Устраивали вылазку.
Она рассмеялась.
— А что там насчет лечебницы?
— В записях есть. Поступления, списки больных. Донна Томаса и здесь оказалась достаточно сведущей. Составила сборник лекарственных снадобий. Замечательные они были женщины, надо сказать. Рисковали жизнью. Одна или две погибли, как она со скорбью отмечает.
— А Джорджоне? Его нет среди поступивших больных?
— Не уверена. Есть запись о вспышке болезни в сентябре тысяча пятьсот десятого года, не самой опустошительной, но пять или шесть человек в лечебницу приняли. Может, его записали под другим именем. Рональд говорит, Джорджоне умер в октябре, то есть уже в конце эпидемии. Ему не повезло, но, с другой стороны, это значит, он мог оказаться тут единственным пациентом. И его могли вообще не записывать, если это как-то касалось Клары. Ради ее безопасности.
— Через какое время у больного чумой наступала смерть? — поинтересовалась Люси.
— Довольно скоро, — ответила Лидия. — Где-то через неделю после заражения. Сперва симптомы, сходные с простудными, а дальше хуже. Лопающиеся нарывы по всему телу, дурной запах, адская боль, мерзко и страшно. Отвратительное зрелище.
— То есть двадцатилетней девушке пришлось наблюдать вот такую смерть любимого? — ужаснулась Люси.
— И воспитанницы сталкивались с подобным кошмаром снова и снова?
— Некоторые выздоравливали, — обнадежила нас Люси.
— Клара никак не могла написать фреску после его смерти, она уже была на сносях. Физически невозможно, не говоря уже о душевном состоянии. Представляю, как она измучилась.
— Не знаю, — ответила Лидия. — Знает лишь Клара.
— Двадцать лет… — повторила Люси.
— Я в двадцать была совсем девчонкой, — сказала Лидия. — Но Клара, такая одаренная, возлюбленная Джорджоне — достойного во всех отношениях мужчины, — наверняка она отличалась от остальных. А замуж тогда выходили рано.
— Замуж — да, — возразила я, — но ведь она не просто покинула уютный отчий дом, чтобы влиться в другую любящую семью. Она оказалась фактически отщепенкой. Таддеа так полагала.
— Да, — проговорила Лидия. — Необыкновенная Клара.
— Не знаю, как мне дальше жить в этом доме, — вдруг воскликнула Люси, проникнувшись трагедией. — Это невыносимо! — Она помрачнела.
— Но, Люси, — запротестовала я, — вы же ее и спасли! Без вас мы бы ничего о ней не узнали, она бы потерялась навсегда. Вы ее последняя опора, как донна Томаса, — монахиня спасла ее в то время, а вы сейчас. Неужели ее дух не полюбит и не защитит вас в этом доме, который стал ей приютом? И не только ей! Взять, например, меня. Вы же преемница благородного начинания. И поэтому все мы здесь.
Я подбежала к ее креслу и, кинувшись на колени, обхватила ее руками. Люси зарыдала. Мы с Лидией, обняв ее с двух сторон, тоже расплакались.
— Боже, — проговорила я, — спасибо тебе за Ка-да-Изола! И за вас, дорогая моя Люси! Вы мой ангел!
Встревоженный Лео втиснулся между нами, целуя всех, до кого мог дотянуться, пока мы не обратили на него внимание и не принялись гладить, обливаясь слезами.
— Ох, — наконец выдавила Люси, вытирая слезы и смеясь. — Ad ogni uccello il suo nido e bello.
— Что это значит?
— Нет места лучше дома, примерно так, — тоже рассмеявшись, ответила Лидия.
Глава седьмая
«Вчера мне вновь приснилась Рипоза».
Дневник пока видела только Люси, она продержала его у себя всю ночь. Утром она молча вручила мне листки. Я отнесла их к себе, закрыла дверь, села на кровать и принялась читать. Голос Клары. «Вчера мне вновь приснилась Рипоза». И дальше…
1 апреля
Я устала упираться в эту стену, которая преграждает мне путь к счастью. Моя работа движется вперед, а жизнь — нет. В мастерской сплошные перемены.
На прошлой неделе к Z приходил один вельможа, обсудить заказ и посмотреть работы остальных. Синьор Вендрамин очень знатный и выглядит внушительно в своем бархатном платье. Он не только заказчик, но и друг; Z вхож в его богатый дом. Я умираю от любопытства — что же он заказал моему учителю? Он, как и все, изумился, увидев меня в мастерской. И это тоже надоедает. Я уже давно не считаю себя диковинкой, но посторонние продолжают удивляться. Вельможа подошел к моему мольберту и вслух поразился, что такое дитя, как он меня назвал, являет подобное мастерство. «Ваша непревзойденная ученица», — с широкой улыбкой обратился он к Z, будто речь шла о чем-то неслыханном. «Да, она чудо», — ответил мой учитель.
Тогда благородный господин сделал мне отдельный заказ, предложив в качестве сюжета миф о Персефоне, видимо отвечающий, как он считает, моей девичьей натуре. Но он должен знать, что там довольно мрачный сюжет. Я попробую наполнить картину тайной и поэзией по примеру моего учителя. Никаких прелестниц, собирающих гиацинты. Дзордзи мне поможет советом, он всегда рядом. Шутит с остальными, говорит о нашей свадьбе, будто она состоялась много лет назад, все смеются. Выйти за него замуж было бы пропуском в рай. Винченцо, я думаю, одобрил бы. Хоть Дзордзи и не знатный в общепринятом смысле, зато никто другой ему в подметки не годится. Однако от непреодолимого препятствия никуда не деться. Нукка сойдет с ума и начнет укорять меня — и Винченцо в придачу, — что я мараю честь семьи, рушу будущее ее детей, затеваю скандал и скатываюсь в трясину. Уважаемые люди будут нас сторониться. Взывая к покойному отцу как к якобы суровому моралисту, она впадет в истерику. Она не предаст его память! До конца дней своих.

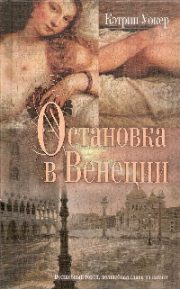
"Остановка в Венеции" отзывы
Отзывы читателей о книге "Остановка в Венеции". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Остановка в Венеции" друзьям в соцсетях.