— Нельзя, бвана! Только для операций!
Последовали два хлопка — два удара. Из палатки выскочила темная фигура в грязном полотняном костюме и налетела на носилки. Ногу Пенфолда пронзила боль. Носильщики с трудом удержали носилки лорда.
— Что за шум, Фонсека?
В устремленных на него черных, глубоко сидящих глазах португальского плантатора Пенфолд не заметил и тени раскаяния. И в который раз подивился: как у этого грубияна может быть такая обворожительная сестра?
— Что все-таки случилось?
— Ничего. Поганый кафр вечно путается под ногами!
Португалец сжимал в кулаке какие-то маленькие штучки. Когда он разговаривал, мясистые губы кривились над прокуренными зубами. Пенфолд обратил внимание на его ботинки. Типичная обувь знатного европейца: слишком изящная, чтобы лазать по кустам, с острым носком и на изрядном каблуке.
Из палатки вышел санитар-африканец с разбитой губой. Из рваных сапог выглядывали обмотки. Рубашка — в пятнах запекшейся крови. Он сплюнул кровь в сторону и произнес всего одно слово:
— Морфий.
— Покажи, что у тебя в руке, Фонсека, — приказал Пенфолд.
— Не твое дело. — Португалец сунул кулак в боковой карман куртки.
— Я отвечаю за всех пленных.
— Я — не твоя английская шваль.
— Сейчас же покажи, или, клянусь, будешь иметь дело с генералом.
Васко Фонсека вытащил руку из кармана. Дрожа от ярости и сверля англичанина злобными глазами, разжал пальцы. Когда он передавал санитару пять крошечных ампул, Пенфолду бросились в глаза его длинные холеные ногти. Он приподнялся на локтях и тихо, но внятно произнес:
— Наркотик предназначен для умирающих, а не для любителей острых ощущений. И еще. Ты не на Португальском Востоке. Не смей поднимать руку на африканцев. Если мои парни узнают, что ты поднял руку на санитара, семь шкур спустят. Был бы я здоров, сам бы тебя отдубасил.
— Что ж, Пенфолд, мы не последний день в Африке. Я тебе этого не забуду.
— Я тоже, — ответил англичанин. Слава Богу, после войны он больше не увидит эту скотину. А как же Анунциата? Вот было бы здорово, если бы в один прекрасный день она появилась в «Белом носороге»!
Анунциата много рассказывала о своем хитром и жестоком брате. В Африке Васко удерживало тщеславное желание стать крупным землевладельцем. Отгрохать роскошную фазенду. Владеть богатейшим поместьем, где бы он мог править как принц — как его предки правили в Мозамбике и Амазонии.
Пенфолд стиснул зубы. Носильщики понесли его к палатке фон Деккена.
— Выпьете со мной, капитан, пока повар осмотрит мою ногу на предмет паразитов?
— Не могу же я допустить, чтобы старый солдат пил в одиночестве. — Фон Деккен открыл портвейн и налил в две жестяные кружки. — Стыд-позор, что вы выбрали такое молодое вино. Англичане ничего не смыслят в выпивке.
— Может, я еще усвою эту науку.
Пенфолд поднял свою кружку.
— Почему бы вам, капитан, не оставлять за собой каменные указательные столбы, по примеру Седьмого легиона?
— Что за Седьмой легион?
— Древние римляне. Крутые были парни, точь в точь как вы: вечно искали, с кем подраться на дальних рубежах империи. Наверное, воображали себя столпом цивилизации. Преследовали и порабощали варваров. И всюду оставляли памятные вехи: «Здесь прошел Седьмой легион!»
— Мы оставляем другие памятники, — взгляд фон Деккена скользнул по склону горы, где похоронная команда из африканцев вбивала в землю деревянные кресты рядом с холмиками из камней.
Пенфолд молчал. Один за другим оставались позади указательные столбы старушки Кении. Ему было ясно: эта война — не для пожилых фермеров. Как и многое в Африке. Пусть молодежь играет в эти игры. Где бы они ни разбивали лагерь, взгляд натыкался на частокол крестов — но это не надолго. Иногда, покидая на носилках лагерь, Пенфолд не успевал произнести слова молитвы, как на кладбище уже хозяйничали откормленные пятнистые гиены.
Вспомнив о Риме, он в сотый раз пожалел о своем Гиббоне с пометками на полях. В минуты скуки или когда что-нибудь не ладилось: ржа портила пшеницу, жена Сисси начинала брюзжать, — «История упадка и разрушения Римской империи» становилась его отдушиной. Подобно любви и земледелию — двум человеческим увлечениям, в которых Пенфолд отчаялся когда-либо преуспеть, — война сводилась к элементарным вещам. Ответит ли женщина на ласку? Пойдет ли дождь? Сколько протопает за день измученный воин?
Бессонными ночами, когда боль в ноге пульсировала в унисон с цикадами, Пенфолд закрывал глаза, чтобы не видеть колдовского неба над головой. А затем, если не приходила прекрасная португалка, вызывал в памяти карту с маршрутами пунических войн.
Парнишка-ординарец начал брить фон Деккену лицо и голову. Внезапно с берега реки донеслись выстрелы и громкие возгласы. Подбежал возбужденный солдат — туземец из племени аскари — и, отдав честь, сообщил новость:
— Бвана Сакарини! Гиппопотамы! Много — больших и жирных!
Отлично, подумал Пенфолд, значит, люди вновь разделят торжественную трапезу — возможно, в последний раз. Каждый изголодавшийся воин мечтал о любимом блюде. Для фон Деккена это, скорее всего, пухлые клецки, брусника и мелкая кислая смородина с берегов Рейна. Сам Адам Пенфолд обожал горячие «самоса» — треугольные индийские пирожки с острой начинкой. Фирменное блюдо «Белого носорога». А также рубленую брюссельскую капусту, мясо газели Томсона и собранные после дождя на склонах горы Кения крошечные лесные грибы, запеченные в костном мозге антилопы канны, с тамариндовым соусом собственного приготовления. И еще — сдобные бутерброды с тетеревиным паштетом… Пенфолд закрыл глаза.
Немцам, их союзникам-аскари и пленным нередко приходилось голодать вместе. Чтобы выжить, люди пекли хлеб из батата и риса. Жгли мангровые кусты и употребляли золу вместо соли. Жевали кожаные ремни. Пенфолду начало казаться, что на свете нет ничего такого, из чего при соответствующей обработке нельзя испечь буханку хлеба или — еще лучше — скрутить сигару. Когда, после дальнего патрулирования, в лагерь возвращались немцы и аскари, их было невозможно различить. От жажды все лица сморщились, как изюм; никто не мог разлепить обескровленные губы. Некоторые пили собственную мочу или кровь пернатых.
Каждый день у Адама Пенфолда сменялись жизнерадостные — несмотря ни на что — носильщики. Колонны черных и белых людей с заброшенными через плечо ружьями растягивались на многие мили. Продираясь сквозь кусты, они горланили походный марш «Гей, сафари!». Даже пленные проникались его боевым духом.
Посасывая гальку, чтобы хоть немного утолить жажду, Пенфолд зажмурился и попытался вызвать в памяти дивные пейзажи своих далеких поместий. Англия и Кения, Уилтшир и Белые горы переплелись в его воспоминаниях.
Будущая жизнь после войны представлялась Пенфолду отвесной скалой, неприступной вершиной. В глубине души он страшился испытаний мирного времени. Долги, нескончаемая работа, страх потерять землю. Сможет ли он хотя бы просто выжить, избежать катастрофы?
С окончанием войны ему будет нечем оправдывать унылое прозябание, отказ от деятельной жизни. Он и так уже потерял большую часть своей английской недвижимости, погнавшись за состоянием в Африке. Знает ли Сисси, что они разорены и им даже не на что вернуться домой? Год за годом он распродавал куски родового поместья, чтобы иметь возможность возделывать землю в Африке. Впрочем, он не так уж и плохо устроился. Земля, слуги и занятия спортом здесь довольно дешевы, и можно поддерживать видимость приличного образа жизни. Обтрепанная куртка соответствующего фасона запросто сойдет в Наньюки, но не в Белгравии.
Он часто спрашивал себя: пригодится ли в мирной жизни опыт этих изнурительных переходов? Умение приспосабливаться, терпеть и импровизировать. Жалко, думал Пенфолд, что я не могу руководить фермой и «Белым носорогом» так, как колбасники разрабатывают свои военные операции. Зато теперь, после победы над этими дьяволами, перед нами откроются новые перспективы. А потом — новая драка. Мы как сорвавшиеся с цепи мальчишки, высыпавшие после уроков на спортплощадку. Может, объединить Кению, Танганьику и Уганду в одну процветающую колонию — что-нибудь вроде Индии, или Канады, или Америки, как ее задумывали?
Каждый день на глазах у Пенфолда таяло германское колониальное войско. Сначала воинов Великой Германии и преданных им аскари, вкупе с немецкими поселенцами и матросами, поддерживали прибрежные арабы. Но, подобно тому, как умирающее от голода животное в первую очередь теряет мягкие ткани, после первых же сражений ряды арабов существенно поредели, а потом и вовсе сошли на нет. Ныне армия походила на обглоданный скелет или истончавшее от многократного употребления (и ставшее еще острее) лезвие. Пенфолд подсчитал: от трех тысяч немцев осталось сто пятьдесят человек. Правда, в лагерях вдоль реки были рассеяны пять тысяч аскари, плюс обслуга, плюс родившиеся в походе детишки и молодые африканцы, принадлежащие арабам. Сегодня будет пир горой: солдаты колониальной армии захватили у португальцев больше вина и шнапса, чем могли унести.
— Я вижу, вы больше не берете в плен португальцев, — заметил Пенфолд.
Немец рыгнул.
— А, пусть себе, как цесарки, шныряют в буше. Они больше едят, чем передвигаются. Вы, англичане, хотя бы идете наравне со всеми. А кстати, милорд, почему ваши офицеры отказываются брататься с пленными португальцами?
— Нам не нравится то, что они несут с собой.
— Несут? Я еще не видел ни одного португальца, который бы что-либо нес. И какова же их ноша?
— Сифилис.
— Верно. Но их пороки подчеркивают наши достоинства. После трех веков португальского ига туземцы приветствуют нас как освободителей.
С берега Замбези вновь донеслись радостные крики. Пенфолда отнесли на склон и дали взглянуть вниз, на кровавую бойню.
В завихряющейся, розовой от крови воде барахтались два самца-гиппопотама. Солдаты-африканцы палили в них из маузеров. Раны животных в водных струях распускались, точно алые цветы. Еще четыре смертельно раненных гиппопотама медленно уходили на дно; выпученные глаза перископами выглядывали из воды. Через три-четыре часа туши всплывут на поверхность. Единственная самка лежала мертвая на берегу — ее подстрелили при попытке скрыться в убежище. Из огромной разинутой пасти хлестала кровь. Выше по течению вода была розовой по другой причине: солдаты полоскали бинты.
К Пенфолду подбежал курьер и отдал записку.
«Дорогой майор Пенфолд!
Прошу Вашу светлость оказать мне честь и принять участие в праздничном богослужении по случаю немецкой оккупации Северной Родезии — первой британской территории, которую солдаты великой Германской империи отвоевали в этой мировой войне.
Мы также приглашаем к нашему столику вашего португальского товарища по оружию, сеньора Васко Фонсеку с сестрой.
П. фон Леттов-Форбек».
Ближе к вечеру туши гиппопотамов, вздувшиеся от газа из-за брожения попавших в желудок трав, начали выскакивать на поверхность, точно резиновые игрушки в ванне. Каждый зверь весом в три тысячи фунтов сулил не только гору мяса, но и большое количество белого жира, столь любимого африканцами. Топленый жир был таким чистым и густым, что таял на солнце, как масло. Когда рядом никого не было, Пенфолд чистил им сапоги и портупею.
Во время марша на обед давали черствый хлеб, намазанный жиром гиппопотама. Из кожи, в дюйм толщиной и жестче, чем у носорога, изготавливали ремни, обувь и плети. Некоторые мужчины вырезали себе искусственные зубы из клыков гиппопотама — прочнее слоновой кости. Другие привязывали к поясу полоски языка этого могучего зверя — сушили про запас.
Чтобы вытащить туши на берег, аскари принесли веревки. Из страха перед крокодилами к реке подходили чрезвычайно осторожно, под прикрытием товарищей. Засверкали лезвия. Надрезы делались сначала вдоль живота, затем от горла до подбородка и вдоль каждой конечности. Когда отделили кожу от мяса, многим показалось, будто внутри гиппопотама жило другое существо. Каждая туша превратилась в мясную лавку; мужчины резали и рубили, отделяли жир; их руки стали липкими, а одежда покрылась кровью. Они вычерпывали содержимое трехкамерного желудка и кромсали истерзанные туши до тех пор, пока не осталось ничего, кроме потрохов, вынутой из желудков травы, отрубленных хвостов и огромной лужи крови. Аскари взваливали увесистые куски скользкого мяса на плечи и несли к общему костру. Растопленный жир собирали в миски. Кровь подогревали и помешивали до тех пор, пока она не становилась густой.
Повар генерала фон Леттова ждал тушу самого маленького гиппопотама. Все это действо доставило ему огромное удовольствие. Рядом стояли шустрые поварята с мешками.

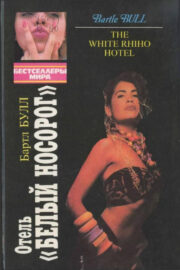
"Отель «Белый носорог»" отзывы
Отзывы читателей о книге "Отель «Белый носорог»". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Отель «Белый носорог»" друзьям в соцсетях.