Как только разрезали тушу, повар растолкал конкурентов, восклицая: «Для генерала!» Несколько молниеносных движений — и у него в ладонях оказалось сердце гиппопотама; повар держал его бережно, словно собираясь свершить жертвоприношение. Потом вставил в пасть зверя лопату, чтобы не закрывалась, и вырезал язык — любимое лакомство командующего. Бросил сердце и язык в мешок и приказал поваренку охранять их, как свои собственные. Под конец повар вырезал ребра и отрубил особенно толстые передние ноги — ведь им приходилось поддерживать тяжелую грушевидную голову.
По крайней мере, в Африке знаешь, что ты ешь, подумалось Пенфолду. Не то что в Лондоне: кухарка приносит готовое блюдо, и кто его знает, что там намешано.
Вернувшись к костру, повар сгреб горячие угли в две ямки — запечь ноги гиппопотама. Он счистил с них остатки кожи и натер солью. Потом завернул ноги в дикий лук и опустил в ямки. Засыпал горячей золой и углями и оставил печься. А сам занялся языком.
Голодный, с тоской поглядывая на пустую бутылку, Пенфолд попросил отнести носилки к его палатке, по соседству с генеральской.
Он застал командующего за приготовлениями к торжественному обеду. Худой и более чем обычно похожий на ястреба, фон Леттов теребил обтрепавшийся край чистого, пожелтевшего от времени кителя. На левой стороне поблескивал Железный крест, лично посланный в Африку кайзером Вильгельмом.
— Я вам рассказывал, милорд, как танцевал в этом кителе с баронессой Бликсен на борту «Адмирала», когда мы в 1914 году плыли в Африку? И о том, почему я ношу его в джунглях?
— Не помню, генерал. Но я нисколько не сомневаюсь, что у вашего кителя богатая история.
— Я ношу его, майор Пенфолд, дабы мои солдаты не забывали о высоких немецких принципах. Личный пример гораздо эффективнее порки или казни.
Подошедший капитан фон Деккен щелкнул пальцами, чтобы привлечь внимание командующего. Позади него стояли два туземца с пленным мотоциклистом.
— Мой генерал, мы только что перехватили английского связника. В планшете — зашифрованное послание.
— Вольно, капитан. — Окинув внимательным взглядом пленного офицера, командующий достал из запыленного кожаного планшета конверт, надрезал перочинным ножом и дважды прочел письмо.
Перед тем как он повернулся и направился в свою палатку, Пенфолду показалось, что он расслышал сказанное шепотом: «Ну вот и все».
Закончив одеваться, фон Деккен распрямил могучие плечи и двинулся впереди носилок Пенфолда на поляну под акациями, где должно было состояться торжественное собрание. Стульями служили ящики с боеприпасами. Между двумя кострами воткнули бамбуковый флагшток. Черный орел Гогенцоллернов трепыхался на ветру.
Пенфолда обрадовал вид напитков, расставленных на сорванной с петель двери, которая поочередно служила операционным столом, стойкой бара и обеденным столом. Офицеры привыкли подолгу стоять, дожидаясь, когда сотрут песком кровавые пятна. Но до чего же расщедрились португальцы! Вино, мадера, портвейн — пожалуй, всего даже не выпить.
Огромный красный солнечный шар медленно погружался в оседающую пыль. И вдруг, как всегда неожиданно, африканская ночь простерла над землей иссиня-черное покрывало. Офицеры прифрантились — насколько позволяли условия. На каждой латунной пуговице сверкал германский орел — на этот раз его не стали в маскировочных целях залеплять грязью. Никто не был экипирован полностью, как положено. Некоторые были не в силах стоять. Но зато, как требовал генерал, каждый был гладко выбрит. Взгляд Пенфолда выхватывал из темноты изможденные лица товарищей. Некоторых он знал даже слишком хорошо.
Фон Деккен слегка наклонил голову.
— Мое почтение, майор Пенфолд. Могу я предложить вам чашечку вашего любимого рубинового портвейна, герр фон Суэка? Как дела у давних союзников?
— Нормально, — буркнул португалец и некоторое время молча буравил немецкого офицера тяжелым взглядом черных глаз, в котором, как всегда, проглядывало высокомерие. — Моя фамилия — Фонсека. Но позвольте спросить, капитан: с какой стати в этой вонючей пустыне мы с вами общаемся по-английски? И почему, лорд Пенфолд, вы с таким тщанием зубрите туземные диалекты, но не удосужитесь выучить хотя бы один язык цивилизованной Европы?
Фон Деккен молча пил.
— Поздравляю с отменным вином, Фонсека, — произнес Пенфолд и обратился к немцу: — Послушайте, капитан, давайте оставим раненым. Мне бы не хотелось, чтобы все выдули тыловики. Как вам нравится эта часть Британской империи? Жарковато, вы не находите?
— Мы, немцы, должны привыкать ко всякому климату.
«Надеюсь, скоро такая необходимость отпадет», — мысленно возразил Пенфолд. Теперь он уже знал, чем кончилась война.
Слуги наконец-то очистили «стол». Поставили ящики с боеприпасами и один походный стул. Фон Леттов и шестеро офицеров приготовились сесть. Носилки Пенфолда поместили позади импровизированных стульев, справа от генерала. Остальные устроились вокруг костров. Стоя во главе «стола», генерал покосился на незанятое сиденье слева от себя.
— Где же наша прекрасная гостья?
— Сеньора Фонсека ухаживает за ранеными, генерал, — ответил полковой врач. — Сейчас она приведет себя в порядок и присоединится к нам. Она просила не ждать ее.
— Завидую раненым, — пробормотал капитан фон Деккен.
Фонсека поигрывал золотыми карманными часами с поясным изображением охотника. Пенфолд узнал подарок Сисси. Эти часы Фонсека выиграл у него в карты. Пенфолд питал слабость к азартным играм, и, разумеется, это не ускользнуло от искушенного в таких делах португальца. Будучи доверчивым, Пенфолд слишком поздно подметил закономерность: Фонсека предпочитает играть с теми, кто страдает от лихорадки или истощения.
Над столом повисло молчание. Изголодавшиеся мужчины жадно рвали на куски свежеиспеченный хлеб и запивали неразбавленным красным вином «Эстремадура». За этим последовали печеные яблоки и хрустящая жареная свинина — напоминание о Германии и последнем стаде свиней, пригнанном с Португальского Востока. Вскоре с молодой свиньей было покончено. Откупорили новые бутылки. Пенфолд почуял знакомый крепкий запах гиппопотама — слуги ставили на стол тарелки с жареным мясом. Генерал поднялся и отставил свой стул. Пенфолд скосил глаза в сторону.
Из темноты выступила стройная, длинноногая, очень женственная фигура в латаных военных брюках и облегающей рубашке цвета хаки. У Пенфолда в который раз дрогнуло сердце при виде густых темных волос и сочных, многообещающих губ.
— Прошу прощения, генерал. Офицеры оставили даме поесть?
— Конечно, Анунциата, — опередил генерала фон Деккен, отвечая страстной улыбкой на взгляд ее огромных карих глаз и наполняя оловянную кружку.
Вскоре вниманием гостей завладела нога гиппопотама. Генерал лично нарезал язык тонкими ломтями. Пенфолд заметил: Фонсека, как всегда, положил себе больше, чем положено, — особенно сочного костного мозга. Подавшись вперед на своем ящике, фон Деккен обратился к брату красавицы:
— Пусть вино и свинина поступили от португальцев, зато гиппопотам — из Родезии, британской колонии, и, стало быть, немецкий трофей. Да, фон Суэка?
— Фонсека, — поправил португалец, жадно обсасывая липкие от костного мозга пальцы. — Фонсека.
— Как вам будет угодно. Один вопрос. В Германской Африке мы на своем опыте убедились — даже такой грубый солдафон, как я, — что на туземцев — а они непосредственны, точно дети, — больше действуют цивилизованные методы, а не жестокость, насилие и лень, если вы улавливаете мою мысль. Однако на вашей плантации мы увидели хлысты, чернокожих в кандалах и ни одного работающего португальца. Вы считаете такой порядок действенным, фон Суэка, или он просто доставляет вам удовольствие?
— Фонсека, капитан. Действенным, говорите? Что значит — действенность? Разве вы не поднажали бы, если бы при каждой заминке по вашей спине гулял кнут? Небольшое физическое воздействие не повредит. Но не вам, немцам, удивляться. Разве не вы проявили вкус к истреблению черномазых?
— Мы убиваем, когда велит долг, — парировал фон Деккен.
Фонсека наставил на него обвиняющий перст.
— Черный для вас — всегда черный! Зато для нас образованный африканец — тот же португалец. Бывая в Лоренсу-Маркише, я вожу свою мулатку в шикарные рестораны; ее принимают в обществе. А вы, немцы и англичане, не разрешаете чернокожей женщине прислуживать вам за столом.
— Передайте вино, — попросил фон Деккен.
— У нас далеко идущие планы. Мой дед испокон веку защищал интересы Португалии в Африке. И мы будем продолжать в том же духе. Мы разводим сахарный тростник. Вы потребляете сахар. А вы что разводите?
— Во всяком случае, не маленьких черненьких ребятишек, — фон Деккен громко расхохотался и оскалил зубы.
— Простите глупую женщину, — вмешалась Анунциата Фонсека. — Что немцы и англичане построили в Африке? Дар-эс-Салам и Найроби — большие деревни. В нашем Лоренсу-Маркише — и музеи, и рестораны, и кафедральный собор, и арена для боя быков. Когда окончится война, джентльмены, мы с братом сделаем все, чтобы восстановить родовой замок в Африке. Вы, немцы, вчера пришли, а завтра, может быть, уйдете.
— Да, я немец, — припечатал фон Деккен. — Но также и африканец. Увидите — я тоже останусь.
Все вернулись к еде и выпивке. Фон Леттов что-то шепнул санитару. Тот обошел все костры, и вскоре несколько сотен мужчин — белых и черных, арабов и африканцев, одни на костылях, а другие с помощью товарищей — собрались в единый круг под акациями и раскидистыми хинными деревьями.
Фон Леттов встал. Его китель в темноте белел, как привидение. Отблески огня подчеркнули морщины. Все затаили дыхание. У генерала заблестели глаза. Он обвел взглядом окружающих и посмотрел вверх, на четыре яркие звезды Южного Креста. На какие-то несколько секунд воцарилась мертвая тишина — только пронзительно стрекотали цикады да где-то вдалеке слышался львиный рык.
— Кончилась наша война, — возвестил генерал, глядя в ночь и словно адресуясь к ветру. — Я получил донесение: в Европу вернулся мир. Но мы здесь, в лагере, не считаем себя побежденными. Этим вечером мы пьем за его императорское величество, кайзера Вильгельма.
Лежа на носилках, Пенфолд слышал хор голосов, поддержавших тост: «За кайзера!» Васко Фонсека стоял, поджав губы; его сестра сидела. В глубокой тени справа от генерала, позади женщины, Пенфолд пробормотал: «Боже, храни короля!»— и опорожнил кружку. Смуглые пальцы коснулись его руки, а затем погладили обнаженную ногу. Пенфолд зажмурился.
— Все мы будем скучать по этому мужественному переходу, — продолжал генерал. — Несмотря на боль и утраты, мы нигде больше не встретим такого товарищества, такой близости к этой колдовской земле. Возможно, нам еще придется воевать на африканских просторах. Но так или иначе завтра для каждого из нас начнется новое приключение.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1919–1920
Глава 4
Гвенн Луэллин подняла воротник поношенной военной шинели и, прислонившись к стене, сжалась в углу заброшенной часовни, одной из сотен на холмах Уэльса. Грубая ткань не спасала от сырости. Гвенн кое-как затянула негнущимися пальцами шарф и подняла зеленые глаза к открытому люку. Проплывавшие над склонами облака просачивались через дверь и окна часовни. Казалось, сырость навсегда повисла в воздухе. Дождь не имел направления, а также начала и конца. Гвенн облизнула губы — и ощутила дождевую влагу.
Во время войны, во Франции, она молилась Богу, чтобы в ее жизнь вернулась холодная чистота Денбишира — вместо грязных, разбитых дорог Западного фронта.
И вместо шума. Никогда ей не забыть этот шум. Стоны и крики раненых, надсадное кряхтение двигателя и нервный стук колес, когда она в отчаянии нажимала на тормоза и перегруженная «скорая» замирала, подобно вышколенному солдату. Кто-нибудь из ходячих раненых садился рядом — непривычно застенчивый, готовый оказать посильную помощь. Однажды она подобрала раненого, не заметив, что он истекает кровью. Немного погодя, когда «рено» хорошенько тряхнуло, труп качнулся вперед и ударился мертвым лицом о ветровое стекло. Гвенн опустила глаза и увидела, как грязь на его сапогах блестит от еще не засохшей крови.
Слава Богу, этот кошмар кончился. Никогда больше она не увидит человеческое тело с разверстыми ранами. И Алан жив, хотя и пострадал. Он все еще на чужбине, в госпитале.
Гвенн потеребила обручальное кольцо и достала из кармана пальто конверт с телеграфным сообщением. Длинные серые полоски с отпечатанными словами были наклеены на лист бумаги.
Как ни странно, послания военного времени — будь то телеграмма военного ведомства о ранении Алана в Месопотамии или обычное, хотя и прошедшее через цензуру, письмо мужа — не сближали, а делали разлученных людей еще более далекими. Без этих клочков бумаги Гвенн могла живо вспоминать сумбурные, исполненные болезненной чувствительности шесть недель их брака. Но раздражающе безликие, всегда несвоевременные писульки вносили разлад в ее душу. Она развернула смятый листок.

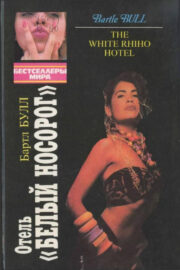
"Отель «Белый носорог»" отзывы
Отзывы читателей о книге "Отель «Белый носорог»". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Отель «Белый носорог»" друзьям в соцсетях.