Потерпев поражение и на этот раз, маршал отвесил дворецкому поклон в знак того, что сдается.
– К тому же, – продолжал тот, – ваши приглашенные, зная, что им предстоит честь обедать за одним столом с господином графом Хагой, раньше половины пятого не явятся.
– А это еще почему?
– Ну как же, ваша светлость, вы ведь, если не ошибаюсь, пригласили графа Делоне, госпожу графиню Дюбарри, господина де Лаперуза, господина де Фавраса, господина де Кондорсе[3], господина де Калиостро и господина де Таверне?
– И что из этого следует?
– Начнем по порядку, ваша светлость. Господин Делоне приедет прямо из Бастилии, а по обледенелым дорогам из Парижа сюда не меньше трех часов езды.
– Да, но он выедет сразу после того, как заключенным будет подан обед, то есть в полдень, – это я знаю точно.
– Простите, ваша светлость, но с тех пор, как вы побывали в Бастилии, обеденное время там изменилось, теперь там обедают в час пополудни.
– Да, сударь мой, век живи, век учись. Благодарю вас, и продолжайте.
– Госпожа Дюбарри едет из Люсьенны, то есть все время под гору и по сплошной гололедице.
– О, это не помешает ей приехать вовремя. С тех пор как она перестала быть фавориткой герцога, она правит лишь баронами. Поймите и вы меня, сударь: я хочу приступить к обеду пораньше из-за господина де Лаперуза, который сегодня вечером отбывает и будет поэтому торопиться.
– Ваша светлость, господин де Лаперуз находится сейчас у короля и беседует с его величеством о географии и космографии. Так скоро король господина де Лаперуза не отпустит.
– Возможно, вы правы.
– Это точно, ваша светлость. Так же получится и с господином де Фаврасом, который беседует сейчас с графом Прованским о новой пьесе господина Карона де Бомарше.
– Вы имеете в виду «Женитьбу Фигаро»?
– Ее, ваше светлость.
– Известно ли вам, сударь, что вы – образованный человек?
– В свободное время я читаю, ваша светлость.
– Но у нас есть еще господин де Кондорсе, который как геометр, должно быть, отличается большой пунктуальностью.
– Это так, но он станет рассчитывать время и в результате опоздает на полчаса. Что же до господина де Калиостро, то он иностранец и живет в Париже недавно, поэтому, скорее всего, еще недостаточно осведомлен о порядках в Версале и может заставить себя ждать.
– Итак, – подытожил маршал, – если не считать Таверне, вы перечислили всех моих приглашенных, причем в последовательности, достойной Гомера, а также бедняги Рафте.
Дворецкий поклонился и ответил:
– Я не упомянул о господине де Таверне, потому что он – старый друг и поступит сообразно с обстоятельствами. Мне кажется, ваша светлость, мы не забыли никого из приглашенных?
– Нет, все точно. Где вы собираетесь подавать обед?
– В большой столовой, ваша светлость.
– Мы там замерзнем.
– Ее топят уже трое суток, ваша светлость, я поддерживаю там температуру в восемнадцать градусов.
– Прекрасно! Однако уже бьет половину. – Маршал бросил взгляд на часы.
– Да, сударь, уже половина пятого, и я слышу во дворе стук копыт. Это прибыла бутылка токайского.
– Служили бы мне так еще лет двадцать! – сказал старый маршал, поворачиваясь к зеркалу, тогда как дворецкий бросился в буфетную.
– Двадцать лет! – со смехом повторил чей-то голос, тут же оторвавший герцога от зеркала. – Двадцать лет! Я желаю вам этого, мой дорогой маршал, но тогда мне будет шестьдесят, я стану совсем старухой.
– Это вы, графиня? – воскликнул маршал. – Сегодня вы первая. Боже, как вы всегда свежи и хороши!
– Скажите лучше, «окоченели», герцог.
– Прошу вас, пройдемте в будуар.
– Вот как? Разговор с глазу на глаз, маршал?
– Нет, втроем, – раздался чей-то надтреснутый голос.
– Таверне! – вскричал маршал. – Вечно испортит весь праздник, – добавил он на ухо графине.
– Вот фат! – рассмеявшись, бросила графиня, и все трое прошли в соседнюю комнату.
2. Лаперуз
В тот же миг приглушенный стук колес по заснеженным плитам двора известил маршала о прибытии остальных гостей, и вскоре благодаря распорядительности дворецкого девять приглашенных уселись за овальный стол в столовой; девять лакеев, немых, словно тени, проворных, но без торопливости, предупредительных, но без навязчивости, заскользили по коврам, не задевая ни самих гостей, ни даже их кресла, покрытые мехами, в которых буквально утопали сидящие за столом.
Гости маршала наслаждались нежным теплом, струящимся от печей, ароматами мяса, букетами вин, а после супа завязалась и застольная беседа.
Ни звука не доносилось снаружи, так как ставни были плотно прикрыты, внутри также царила полная тишина: не звякала ни тарелка при перемене, ни столовое серебро, бесшумно появлявшееся на столе из буфетной, и даже дворецкий отдавал приказы лакеям не шепотом, а взглядом.
Минут через десять приглашенные почувствовали, что они в столовой одни – слуги казались столь немыми и бесплотными, что обязательно должны были быть и глухими.
Г-н де Ришелье первым нарушил царившее за столом молчание, обратившись к соседу справа:
– Почему вы ничего не пьете, господин граф?
Тот, к кому были обращены эти слова, был блондином лет сорока, невысоким, но широким в плечах; в его обычно грустных светло-голубых глазах порою мелькала искорка оживления, все черты его породистого, открытого лица выражали врожденное благородство.
– Я пью лишь воду, маршал, – ответил он.
– Но только не у Людовика Пятнадцатого, – возразил герцог. – Я имел честь обедать у него вместе с вами, господин граф, и тогда вы осмелились попробовать вина.
– Да, это чудное воспоминание, господин маршал. В семьдесят первом году я действительно пил там токайское из императорских погребов.
– Такое же вино мой дворецкий имеет честь наливать вам в эту минуту, господин граф, – сообщил Ришелье и поклонился.
Граф Хага поднял бокал к глазам и посмотрел сквозь него на свечи. Они сияли, словно расплавленные рубины.
– Действительно, – подтвердил он. – Благодарю вас, господин маршал.
Граф произнес слова благодарности с таким благородством и изяществом, что присутствующие в едином порыве поднялись с кресел и воскликнули:
– Да здравствует его величество!
– Правильно, – подхватил граф Хага, – да здравствует его величество король Франции! Не так ли, господин де Лаперуз?
– Господин граф, – ответил капитан негромко и почтительно, как человек, привыкший разговаривать с коронованными особами, – я покинул короля час назад, и он был ко мне так добр, что никто громче меня не воскликнет: «Да здравствует король!» Однако, поскольку через час я поскачу на почтовых к морю, где меня дожидаются два корабля, отданные под мою команду его величеством, и окажусь далеко отсюда, я прошу у вас разрешения приветствовать сейчас другого короля, которому я был бы рад служить, не будь у меня столь хорошего господина.
И, подняв бокал, г-н де Лаперуз скромно поклонился графу Хаге.
– Вы правы, сударь, мы все готовы выпить за здоровье господина графа, – вмешалась г-жа Дюбарри, сидевшая слева от маршала. – Только пусть этот тост провозгласит наш старейшина, как выражаются в парламенте.
– Любопытно бы знать, Таверне, на кого тут намекают – на тебя или на меня? – рассмеялся маршал, бросив взгляд на старого друга.
– Не думаю, – заметил гость, помещавшийся напротив маршала де Ришелье.
– Чего вы не думаете, господин де Калиостро? – пронзительно взглянув на него, спросил граф Хага.
– Я не думаю, господин граф, – с поклоном отвечал Калиостро, – что наш старейшина – господин де Ришелье.
– О, вот это славно! – воскликнул маршал. – Похоже, речь идет о тебе, Таверне.
– Да полно, я же моложе тебя на восемь лет. Я родился в тысяча семьсот четвертом году, – возразил почтенный старец.
– Неужто вам восемьдесят восемь лет, господин герцог? – удивился г-н де Кондорсе.
– Увы, это так. Подсчитать несложно, особенно такому математику, как вы, маркиз. Я родился в прошлом веке, в великом веке, как его называют, в тысяча шестьсот девяносто шестом году.
– Невероятно! – заметил Делоне.
– О, будь здесь ваш отец, господин губернатор Бастилии, он ничего невероятного в этом не усмотрел бы, так как я был у него на пансионе в тысяча семьсот четырнадцатом году.
– Уверяю вас, – вмешался г-н де Фаврас, – что старейшина среди нас – вино, которое господин граф Хага как раз наливает себе в бокал.
– Вы правы, господин де Фаврас, этому токайскому – сто двадцать лет, – отозвался граф. – Ему и принадлежит честь быть поднятым за здоровье короля.
– Минутку, господа, я протестую, – заявил Калиостро, оглядывая присутствующих умными, живыми глазами.
– Протестуете против права этого токайского на старшинство? – раздались голоса сотрапезников.
– Разумеется, потому что эту бутылку запечатывал я, – спокойно пояснил граф.
– Вы?
– Да, я. Это случилось в день победы, одержанной Монтекукколи[4] над турками в тысяча шестьсот шестьдесят четвертом году.
Эти слова, произнесенные Калиостро с непоколебимой серьезностью, были встречены взрывом хохота.
– В таком случае, сударь, – сказала г-жа Дюбарри, – вам должно быть около ста тридцати лет – я прибавила десяток лет, потому что вы ведь должны были умудриться налить это прекрасное вино в такую большую бутылку.
– Когда я производил эту операцию, мне было больше десяти лет, сударыня, поскольку через день его величество император Австрийский оказал мне честь, поручив поздравить Монтекукколи, который своею победой при Санкт-Готхарде отомстил за поражение в Словении[5], когда неверные в тысяча пятьсот тридцать шестом году наголову разбили имперцев, моих друзей и товарищей по оружию.
– Значит, – с той же невозмутимостью, что и Калиостро, проговорил граф Хага, – в то время вам должно было быть не менее десяти лет, раз вы лично присутствовали при этой памятной битве.
– Ужасный был разгром, господин граф, – с поклоном промолвил Калиостро.
– Но все-таки не такой, как поражение при Креси, – улыбнувшись, заметил Кондорсе.
– Это верно, сударь, – с не менее ясной улыбкой отозвался Калиостро, – поражение при Креси было ужасным еще и потому, что разгром потерпела не только армия, но и вся Франция. Но следует признать, что англичане добились победы не очень-то честным путем. У короля Эдуарда были пушки, о чем понятия не имел Филипп Валуа[6], точнее, во что он никак не хотел поверить, хотя я его и предупреждал, что своими глазами видел четыре орудия, которые Эдуард купил у венецианцев.
– Ах, так вы знали Филиппа Валуа? – осведомилась г-жа Дюбарри.
– Сударыня, я имел честь быть в числе тех пятерых сеньоров, которые сопровождали его, когда он покидал поле битвы, – ответил Калиостро. – Я приехал во Францию с несчастным престарелым королем Богемии, который был слеп и велел себя убить, когда узнал, что все пропало.
– О Боже, сударь, – воскликнул Лаперуз, – вы и представить не можете, как мне жаль, что вместо битвы при Креси вы не наблюдали за сражением при Акции[7].
– Почему же, сударь?
– Да потому, что вы смогли бы сообщить мне кое-какие подробности по части навигации, которые, несмотря на прекрасный рассказ Плутарха, для меня не очень-то ясны.
– Какие именно, сударь? Я буду счастлив, если смогу вам чем-либо помочь.
– Так вы там были?!
– Нет, сударь, я был тогда в Египте. Царица Клеопатра поручила мне пересоставить Александрийскую библиотеку[8]. Я подходил для этой работы более других, поскольку знал лично лучших античных авторов.
– Вы видели царицу Клеопатру, господин Калиостро? – вскричала графиня Дюбарри.
– Как вижу вас, сударыня.
– Она была в самом деле красива или это только легенда?
– Вы сами знаете, госпожа графиня, что красота – понятие относительное. В Египте Клеопатра была королевой и красавицей, а в Париже смогла бы претендовать лишь на роль хорошенькой гризетки.
– Не следует отзываться дурно о гризетках, господин граф.
– Да Боже меня упаси!
– Итак, Клеопатра была…
– Невысокого роста, худощавой, живой, остроумной. Елаза у нее были большие и миндалевидные, нос греческий, зубы жемчужные, а рука – как у вас, сударыня: она была поистине достойна держать скипетр. Да вот, кстати, алмаз, который она мне подарила и который достался ей от ее брата Птолемея: она носила его на большом пальце.
– На большом пальце? – воскликнула г-жа Дюбарри.
– Да, по тогдашней египетской моде, а я видите! – с трудом надеваю его на мизинец.
Сняв с пальца перстень, он передал его г-же Дюбарри.
Алмаз и вправду был восхитителен – столь чистой воды и так искусно огранен, что мог стоить тридцать, а то и все сорок тысяч франков.
Обойдя стол, перстень вернулся к Калиостро, который невозмутимо надел его обратно на мизинец и сказал:

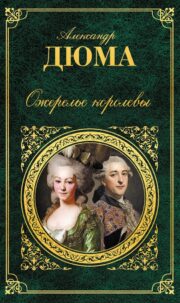
"Ожерелье королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Ожерелье королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Ожерелье королевы" друзьям в соцсетях.