– Ах, графиня, вы говорите со мною так, словно за что-то сердитесь.
– Нет, монсеньор, моего гнева вы пока не заслуживаете.
– И никогда не заслужу, сударыня, начиная с этого дня, когда я имел счастье вас увидеть и познакомиться с вами.
«Ах, хорошо бы взглянуть сейчас в зеркало!» – подумала графиня.
– И с этого дня, – продолжал кардинал, – я не оставлю вас своими заботами.
– Ах, полно вам, монсеньор! – сказала Жанна, однако свою руку из ладоней кардинала не вынула.
– Что вы хотите этим сказать?
– Не говорите мне о своем покровительстве.
– Боже сохрани, чтобы я когда-нибудь произнес слово «покровительство»! О сударыня, унижен буду я, а не вы.
– В таком случае, господин кардинал, давайте условимся об одной вещи, которая мне чрезвычайно польстит.
– Коли так, непременно условимся, сударыня.
– Давайте условимся, ваше высокопреосвященство, что вы нанесли визит вежливости графине де Ламотт-Валуа, и не более того.
– Но тогда и не менее, – галантно ответил кардинал. Он поднес пальцы Жанны к губам и запечатлел на них довольно долгий поцелуй. Графиня убрала руку.
– Ах, эта вежливость! – произнес кардинал со вкусом и отменной серьезностью.
Жанна снова протянула ему руку, которую на сей раз прелат поцеловал с большим почтением.
– Вот так-то лучше, ваше высокопреосвященство.
Кардинал поклонился.
– Сознавать, что я, – продолжала графиня, – занимаю местечко, пусть даже самое крошечное, в уме столь выдающегося и занятого человека, как вы, – клянусь вам, одна эта мысль будет служить мне утешением целый год.
– Год? Но это так мало, графиня. Будем надеяться, что дольше.
– Что ж, я не говорю «нет», господин кардинал, – с улыбкой отвечала Жанна.
Обращение «господин кардинал» было фамильярностью, которую г-жа де Ламотт допустила уже второй раз. Прелат, человек весьма гордый и ранимый, мог бы удивиться этому, однако дело уже зашло столь далеко, что он не только не удивился, но даже порадовался обмолвке как обещанию со стороны графини.
– Ах, доверьтесь же мне! – воскликнул он, пододвигаясь еще ближе. – Вот так будет лучше.
– Я вам верю, ибо чувствую, что ваше высокопреосвященство…
– А только что вы назвали меня «господин кардинал», графиня.
– Простите, ваше высокопреосвященство, придворный этикет мне незнаком. Я говорю, что верю вам, ибо вы можете понять мой отважный и дерзкий ум и чистое сердце. Несмотря на то, что я так страдала от нужды, столько боролась со злобными недругами, ваше высокопреосвященство способны увидеть по моим речам все, что во мне достойно уважения. А к остальному, надеюсь, ваше высокопреосвященство будете снисходительны.
– Итак, мы друзья, сударыня. Договорились?
– Мне очень бы этого хотелось.
Кардинал встал и подошел к г-же де Ламотт, но поскольку руки его для простой проповеди были разведены слишком широко, легкая и гибкая графиня ускользнула из их кольца.
– Дружба втроем! – проговорила она с неподражаемой смесью насмешки и невинности.
– Втроем?
– Ну разумеется. Неужели вы забыли, что где-то на свете есть бедный кавалерист, которого зовут граф де Ламотт?
– О сударыня, что за прискорбное воспоминание!
– Но я должна говорить вам о нем, поскольку сами вы этого делать не станете.
– Знаете, почему я не говорю о нем, графиня?
– Ну, скажите.
– Он сам станет напоминать о себе: о чужих мужьях не забывают, уж поверьте.
– Но ведь он будет напоминать лишь о себе?
– А люди будут говорить о вас, о нас.
– Каким образом?
– Скажут, к примеру: господин де Ламотт радуется или же огорчается, что господин кардинал де Роган три, четыре, пять раз в неделю приезжает к госпоже де Ламотт на улицу Сен-Клод.
– Да будет вам, господин кардинал! Три, четыре, пять раз в неделю?
– Дружба есть дружба, сударыня. Я сказал пять раз? Я ошибся. Я хотел сказать шесть или даже семь, не считая еще одного дня в високосный год.
Жанна рассмеялась.
Кардинал отметил, что она в первый раз изволила обратить внимание на его шутку, и почувствовал себя польщенным.
– Но вы сможете сделать так, чтобы разговоров не было? – спросила графиня. – Вы же понимаете, это невозможно.
– Смогу, – ответил де Роган.
– А как?
– О, это совсем нетрудно. Плохо ли, хорошо ли, но народ в Париже меня знает.
– Конечно, знает, притом хорошо, ваше высокопреосвященство.
– А вас, увы, нет.
– Ну так что ж?
– А теперь давайте поставим вопрос иначе.
– Иначе? То есть…
– Ну, смотрите. Если, к примеру…
– Продолжайте.
– Если из дому будете выходить вы, а не я?
– Чтобы я пришла к вам в особняк, монсеньор?
– К министру же вы пойдете?
– Министр – не мужчина, монсеньор.
– Вы просто восхитительны. Но речь идет не о моем особняке, у меня есть дом.
– Точнее, домик?
– Вовсе нет, дом, предназначенный для вас.
– Дом? Для меня? – воскликнула графиня. – И где же он? Мне о нем ничего не известно.
Кардинал, который было снова сел, поднялся с кресла.
– Завтра в десять утра вы получите адрес.
Графиня зарделась, и кардинал учтиво взял ее за руку. На этот раз поцелуй оказался почтительным, нежным и дерзким в одно и то же время.
Церемонию прощания собеседники завершили улыбкой, предвещающей скорую близость.
– Посветите его высокопреосвященству! – крикнула графиня.
Появилась старуха со свечой.
Прелат ушел.
«Кажется, первый шаг в свет недурен», – подумала Жанна.
«Ну – ну, – влезая в карету, думал кардинал, – я сделал сразу два дела. Эта женщина слишком умна, чтобы вести себя с королевой так же, как вела себя со мной».
16. Месмер и Сен-Мартен[47]
Были времена, когда весь Париж, свободный от каких бы то ни было дел, предавался сплошному досугу, увлекаясь вопросами, которые в наши дни составляют монополию богачей, считающихся никчемными, да ученых, считающихся бездельниками.
В 1784 году, до коего мы с вами добрались, моднейшим вопросом, повсюду витавшим в воздухе и, словно облако среди горных вершин, застревавшим в хоть сколько-нибудь образованных и возвышенных умах, был месмеризм – наука загадочная и почти не разъясненная ее создателями, которые, не испытывая потребности сделать свое детище достоянием народа с самого момента его рождения, позволили этой науке взять имя человека, так сказать, аристократический титул, вместо того чтобы назвать ее каким-нибудь ученым греческим словом, коими нынче скромные я застенчивые ученые вводят в обиход научные понятия.
Да и к чему в 1784 году было демократизировать науку? Разве народ, которым правили уже более полутора веков, не спрашивая его мнения[48], жаловался на что-либо в своем государстве? Отнюдь. Народ лишь представлял собою плодоносную пашню, дававшую урожай, тучную ниву, которую в положенный срок жали. Но хозяином этой пашни был король, а жнецами – знать.
Нынче все стало по-иному: Франция, похожая на громадные песочные часы, в течение девяти столетий отмеривала время монархии, а могучая власть Господа их переворачивала; теперь же часы эти будут отмеривать время народа.
В 1784 году имя человека еще служило рекомендацией. Сегодня же – напротив: успех определяется именем вещей.
Однако давайте оставим «сегодня» и бросим взгляд в день вчерашний. Ну что такое полвека с точки зрения вечности? Это даже меньше, чем отрезок времени, разделяющий вчера и сегодня.
Итак, доктор Месмер находился в то время в Париже, как мы узнали от самой Марии Антуанетты, когда она просила у короля разрешения нанести ему визит. Да будет нам позволено теперь сказать несколько слов о докторе Месмере, имя которого, знакомое нынче лишь немногим посвященным, не сходило в описываемую нами пору у людей с языка.
В 1777 году доктор Месмер привез из Германии, этой страны туманных грез, науку, над которой, так сказать, собрались тучи и блистали молнии. В свете этих молний ученый видел лишь тучи, образовавшие у него над головою мрачный свод, тогда как обыватель замечал лишь сами молнии.
Месмер дебютировал в Германии работой о воздействии планет на людей. Он пытался доказать, что небесные тела благодаря силам их взаимного притяжения оказывают воздействие на живые существа, и в особенности на их нервную систему, через посредство мельчайших флюидов, наполняющих вселенную. Однако эта его первая теория была довольно абстрактна. Чтобы ее уразуметь, следовало иметь представление о работах Галилея и Ньютона. Она представляла собою смесь астрономии с астрологическими бреднями и не могла быть понята не только простыми людьми, но и аристократами, которые, чтобы ее постичь, должны были бы организовать научное общество. Месмер бросил эту идею и занялся магнитами.
В то время магниты изучались весьма интенсивно, свойства притяжения и отталкивания делали их похожими на человеческие существа, поскольку как бы наделяли неживые минералы двумя главнейшими человеческими страстями – любовью и ненавистью. Потому-то магнитам и приписывали необычайные целебные свойства. И вот Месмер ввел магниты в свою первую теорию и попытался посмотреть, что из этого получится.
К несчастью, приехав в Вену, Месмер обнаружил, что у него уже есть соперник. Некий ученый по фамилии Галль[49] заявил, что Месмер похитил у него разработанный им метод. Тогда Месмер как человек изобретательный заявил в свой черед, что магнитами он заниматься больше не будет, так как они совершенно бесполезны, и отныне станет лечить с помощью не вещественного, а животного магнетизма.
В слове этом, прозвучавшем из его уст как новое, никакого открытия, в сущности, не заключалось: магнетизм был известен еще в древности, использовался в египетских ритуалах, а также греческими предсказателями, и его традиции тянулись в средние века, когда кое-что из этой науки применяли чародеи XIII, XIV и XV веков. Многие из них сгинули в пламени костров и стали мучениками этого странного вероучения.
Юрбен Грандье[50] был не кем иным, как магнетизером.
Месмер слышал немало разговоров о чудесах магнетизма. Жозеф Бальзамо, герой одной из наших книг, оставил следы своего пребывания в Германии, в частности в Страсбурге. Месмер принялся по крупицам собирать сведения об этой науке, разбросанные повсюду, точно огоньки, блуждающие ночью над берегом пруда, и создал в конце концов цельную теорию, которую назвал месмеризмом.
После этого он послал тезисы своего учения в Парижскую Академию наук, Лондонское Королевское общество и Берлинскую Академию. Две первые корпорации не ответили ему вовсе, а последняя обозвала сумасшедшим.
Тогда Месмер вспомнил некоего греческого философа, который отрицал движение и которого его противник посрамил, пройдя на его глазах несколько шагов. Он прибыл во Францию, принял от доктора Сторка и окулиста Венцеля семнадцатилетнюю девушку, страдающую заболеванием печени и темной водой[51] и после трехмесячного лечения болезнь была побеждена – слепая прозрела.
Это исцеление убедило многих, и среди них врача по имени Делон: из противника он превратился в апостола.
Начиная с этого времени слава Месмера стала расти; Академия высказалась против новоявленного целителя, однако двор его поддержал. Министерство начало переговоры с Месмером, предлагая ему облагодетельствовать человечество, открыв секрет своей науки. Месмер назначил свою цену. Поторговавшись, г-н де Бретейль[52] от имени короля посулил ему пожизненную пенсию в размере 20 000 ливров и, кроме того, 10000 ливров за то, что он обучит своему искусству трех человек, выбранных правительством. Однако Месмер, возмущенный скаредностью короля, отказался, взяв с собою нескольких больных, уехал на воды в Спа.
Но тут Месмер получил неожиданный удар. Делон, его ученик Делон, владевший секретом, который Месмер отказался продать за 30 000, открыл общедоступный кабинет, где стал лечить с помощью месмеризма.
Узнав эту страшную новость, Месмер стал кричать, что его обокрали, обжулили; он едва не сошел с ума. Но одному из взятых им с собою больных, г-ну де Бергасу, пришла в голову счастливая мысль отдать способ знаменитого профессора в руки своеобразного товарищества на вере. Он организовал комитет из ста человек с капиталом в 340 000 ливров, поставив условие, что Месмер раскроет пайщикам свой секрет. Месмер сообщил им все, что они просили, забрал деньги и вернулся в Париж.
Момент оказался благоприятным. В жизни народов случаются минуты, предшествующие серьезным преобразованиям, когда вся нация как бы останавливается перед неведомой преградой, колеблется, чувствуя, что дошла до края пропасти, хотя ее и не видит.
Во Франции как раз настала такая минута: внешне страна выглядела спокойной, но дух ее пребывал в смятении, люди как бы застыли в своем призрачном счастье, предвидя его скорый конец; так, человек, дойдя до края леса и увидав, что он редеет, угадывает близость опушки. Спокойствие, в котором не было ничего прочного и реального, утомляло; люди искали сильных впечатлений и встречали любые новшества с распростертыми объятиями. Все стали слишком легкомысленны, чтобы интересоваться, как прежде, вопросами управления государством или молинизма[53], и ссорились по поводу музыки, принимая сторону Глюка или Пиччини[54], страстно обсуждали «Энциклопедию»[55] и мемуары Бомарше.

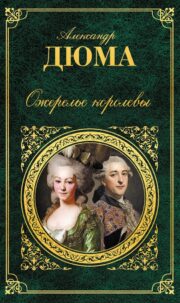
"Ожерелье королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Ожерелье королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Ожерелье королевы" друзьям в соцсетях.