Появление новой оперы занимало большее число умов, нежели мирный договор с Англией и признание республики Соединенных Штатов. Это было время, когда мыслящие люди, познавшие благодаря философам истину, а значит, и разочарование, устали от прозрения, позволяющего проникнуть в суть вещей, и шаг за шагом пытались преодолеть границы реального мира, чтобы вступить в мир грез и фантазий.
И действительно, если можно считать доказанным, что лишь ясные и понятные истины быстро становятся достоянием масс, не менее неоспоримо и то, что тайны обладают для всех людей могущественной притягательной силой. Вот и народ Франции неодолимо влекла к себе странная загадка месмерических флюидов, которые, по мнению адептов, возвращали больным здоровье, безумным – разум и делали из мудрецов безумцев.
Везде только и слышалось имя Месмера. Что он сделал? На ком теперь произвел свою чудесную операцию? Какому знатному вельможе вернул зрение или силу? Какой даме, изнуренной бессонными ночами, проведенными за игрой, привел в порядок расстроенные нервы? Какой молоденькой девушке открыл будущее, введя ее в магнетический транс?
Будущее! Великое слово всех времен, великая загадка для всех умов, разрешение всех проблем! Да и то сказать – какое тогда было настоящее?
Королевская власть без великолепия, дворянство без влияния, страна без торговли, народ без прав, общество без уверенности.
От королевской семьи, в тревоге и одиночестве восседающей на троне, до семьи простолюдина, чуть не умирающей с голоду в какой-нибудь трущобе, – везде нищета, бесславие и страх.
Позабыть о других и думать лишь о себе, почерпнуть из нового, странного, неведомого источника уверенность в долгой жизни без недугов, вырвать хоть что-нибудь у скупого неба – разве это не предмет чаяний, причем вполне объяснимых, любого человека, которому Месмер приоткрывал завесу будущего?
Вольтер умер, и во Франции не стало слышно взрывов веселья, остался разве что смех Бомарше, еще более горький, чем у его учителя. Умер Руссо, и во Франции не осталось больше религиозных философов. Руссо пытался поддержать Бога, но после его смерти никто более на это не отважился из страха оказаться раздавленным немыслимой тяжестью.
Когда-то французы серьезно занимались войной. Короли поддерживали в своих подданных национальный героизм, но теперь единственной войной, которую вела Франция, была американская, и к тому же король лично никак в ней не участвовал. Французы сражались за какое-то неведомое понятие, которое американцы называли независимостью – словом, весьма абстрактно понимаемым французами как свобода.
Да и эта далекая война, что велась, в сущности, другим народом и в другом мире, только что закончилась.
По зрелом размышлении людям казалось, что стоит и впрямь интересоваться лучше Месмером, этим немецким врачом, который уже второй раз привел Францию в волнение, нежели лордом Корнуолом[56] или же г-ном Вашингтоном – они ведь так далеко, что их, скорее всего, никто никогда и не увидит.
А Месмер был рядом: его можно увидеть, можно прикоснуться к нему и – самое могучее желание трех четвертей Парижа – ощутить его прикосновение.
И вот этот человек, которого со дня его появления в Париже никто не поддерживал, даже королева, всегда охотно помогавшая своим соотечественникам, и который, если бы не предательство доктора Делона, так и пребывал бы в безвестности, – этот человек поистине царил в умах всего города, оставив далеко позади короля, с которым он никогда не разговаривал, г-на де Лафайета[57], с которым еще не разговаривал, и г-на Неккера[58], с которым уже не разговаривал.
И как если бы уходящий век поставил своей задачей дать каждому уму то, к чему он склонен, сердцу – то к чему оно лежит, и телу – то, что ему требуется, лицом к лицу с материалистом Месмером встал спиритуалист Сен-Мартен, чье учение призвано было утешить тех, кому претил позитивизм немецкого врача.
Представьте себе атеиста с вероучением более добрым, чем сама религия, республиканца, преисполненного учтивого почтения к королям, дворянина, принадлежащего к привилегированным классам, но при этом нежно любящего народ, представьте, наконец, как этот человек, наделенный даром железной логики и пленительного красноречия, нападает на все существующие религии, которые называет безрассудными лишь по той причине, что они все подразумевают наличие Бога.
Вообразите Эпикура в белом пудреном парике, расшитом кафтане, блестящем камзоле, коротких атласных штанах, шелковых чулках и красных башмаках, Эпикура, не только опрокидывающего богов, в которых он не верит, но и сотрясающего правительства, которые считает культами, так как те никогда не могут согласиться друг с другом и почти всегда приводят человечество к несчастьям.
Он выступал против социального законодательства, ставя его под сомнение следующим тезисом: оно одинаково наказывает несхожие преступления, карает следствия, не разобравшись в причинах.
Теперь вообразите, что этот искуситель, называвший себя Неведомым философом, с целью объединить людей разного образа мыслей собрал воедино все, что можно найти привлекательного в обещаниях духовного рая, и вместо утверждения о равенстве всех людей, что само по себе нелепость, изобрел формулу, которая, казалось, вертелась на языке даже у тех, кто ее отрицал: «Все мыслящие люди – короли!»
А теперь представьте, что подобного рода нравственный принцип внезапно стал достоянием общества без надежд и руководителей, общества, напоминающего архипелаг, воды которого изобилуют подводными рифами, то бишь всевозможными идеями. И если вы вспомните, что в те времена женщины были нежны и безрассудны, мужчины жаждали власти, почестей и удовольствий, что короли позволили своим коронам покачнуться и на них впервые остановился любопытный и угрожающий взгляд кого-то, таящегося во мраке, – если вы вспомните все это, то вряд ли удивитесь количеству приверженцев, которых снискала себе доктрина, гласившая:
«Выберите среди вас душу, превосходящую другие в любви, милосердии, в могучем желании любить и приносить счастье. Когда же такой человек будет найден, склонитесь перед ним, смиритесь, уничижитесь, признайте себя существами низшими по сравнению с ним, чтобы дать пространство для неограниченной власти его души, миссия которой – восстановить в вас главный нравственный принцип, то есть равенство в страданиях, поскольку в силу своих способностей и окружения вы сейчас неравны».
Добавьте к этому, что неведомый философ окружил себя тайной и предпочитал глубокий мрак вдали от всяческих соглядатаев и прихлебателей для мирного обсуждения своей великой социальной теории, способной стать политикой всего мира.
– Слушайте меня, – говорил он, – верные друзья, преданные сердца, слушайте и постарайтесь понять, а возможно, даже не слушайте, потому что, если вам интересно и у вас есть желание меня понять, это удастся с большим трудом – ведь я не раскрываю своих тайн тем, кто сам не пытается приподнять над ними завесу.
– Я говорю вещи, которые, кажется, вовсе не хочу сказать, потому-то часто и складывается впечатление, что я хочу сказать вовсе не то, что говорю.
И Сен-Мартен был прав: его вправду окружали молчаливые, угрюмые и ревностные защитники его идей, непонятная религиозная мистика которых была непроницаема для постороннего взора.
Вот так, трудясь во славу души и материи, мечтая уничтожить Бога и религию Христа, эти двое разделили по убеждениям всех мыслящих людей, все избранные натуры Франции на два лагеря.
Вокруг ванны Месмера, откуда струилось благополучие, объединилась вся чувственность и изящный материализм вырождающейся нации, тогда как вокруг книги заблуждений и истин собрались натуры набожные, милосердные, любящие и жаждущие, вкусив химер, просветлиться.
А если учесть, что за пределами этих привилегированных сфер кипели и бурлили самые разные идеи, что слухи, вырвавшись наружу, превращались в раскаты грома, подобно отдаленным зарницам, превращающимся в молнии, нетрудно будет понять неопределенное состояние, в котором находились низшие слои общества, то есть буржуазия и народ, которых позже назовут третьим сословием: они угадывали только, что речь идет об их судьбах, и в своем нетерпении и смирении горели, словно новые Прометеи, желанием похитить священный огонь и с его помощью вдохнуть жизнь в мир, который будет принадлежать им и в котором они сами будут вершить свою судьбу.
Заговоры под видом бесед, союзы под видом кружков, общественные партии под видом кадрилей, другими словами, гражданская война и анархия – вот чем казалось все это человеку думающему, который еще не прозревал другой жизни для общества.
Увы! Сегодня, когда все покровы уже сорваны, когда нация Прометеев уж раз десять была опалена похищенным ею самою огнем, скажите: что мог предвидеть мыслящий человек в конце этого странного XVIII века? Или разрушение мира, или нечто похожее на то, что произошло между смертью Цезаря и восшествием на престол Августа.
Август отделил мир языческий от мира христианского, так же как Наполеон отделил мир феодальный от мира демократического.
Впрочем, довольно занимать читателя этим отступлением, которое, должно быть, показалось ему несколько затянутым, однако, ей-же-ей, трудно осветить нужную нам эпоху, не касаясь столь серьезных и жизненно важных вопросов.
Но попытку мы все же сделали. Это похоже на попытку ребенка, соскабливающего ноготком ржавчину с постамента античной статуи, чтобы прочитать на три четверти стершуюся надпись.
Вернемся же к тому, что видно на первый взгляд. Продолжая описывать действительность, мы сказали бы слишком много для романиста и слишком мало для историка.
17. Ванна
Картина, которую мы попытались нарисовать в предыдущей главе, картина тех времен и личностей, занимающих умы общества, поможет читателю понять, почему публичные исцеления Месмера производили на парижан столь неотразимое впечатление.
Потому-то король Людовик XVI, если не из любопытства, то, по крайней мере, из уважения к новинке, поднявшей столько шума в славном городе Париже, разрешил королеве – при условии, как мы помним, что августейшую посетительницу будет сопровождать принцесса, – съездить посмотреть разок на то, что все уже видели.
Это произошло через два дня после того, как г-н кардинал де Роган нанес визит г-же де Ламотт.
Погода улучшилась: наступила оттепель. Целая армия метельщиков, гордых и довольных тем, что могут наконец покончить с зимой, с усердием солдат, копающих траншею, сгребала в канавы остатки грязного снега, превращавшегося на глазах в черные ручьи.
На синем прозрачном небе начали загораться первые звезды, когда г-жа де Ламотт, изящно одетая и производившая впечатление женщины состоятельной, приехав в экипаже, который г-жа Клотильда постаралась выбрать поновее, остановилась на Вандомской площади, перед величественным домом с ярко освещенными окнами по фасаду.
Это был дом доктора Месмера.
Кроме экипажа г-жи де Ламотт, перед зданием стояло множество других экипажей и портшезов, а также топталось несколько сотен зевак, ожидавших выхода излеченных и прибытия тех, кому еще предстояло излечиться.
Последние, почти все люди богатые и титулованные, прибывали в каретах с гербами, и лакеи помогали им выйти или даже выносили их на руках. Эти своего рода тюки, закутанные в меховые плащи и атласные шубы, все же не служили утешением для тех голодных и полуголодных людей, которые искали у дверей описанного нами дома доказательств того, что Господь делает человека больным или здоровым, невзирая на его генеалогическое древо.
Когда кто-нибудь из больных, бледный, едва шевеля руками и ногами, скрывался за внушительной дверью, по собравшимся пробегал шепоток, и редко когда эта любопытная и сообразительная толпа, любившая наблюдать у входа на бал или под портиками театра за жадными до развлечений аристократами, не узнавала в страдальце то герцога с парализованной рукой или ногой, то генерал-майора, которому отказали ноги – не столько из-за тягот военных походов, сколько из-за утомления, вызванного привалами у дам из Оперы или Итальянской комедии.
Изыскания, производимые толпой, само собой разумеется, относились не только к мужчинам.
Вот, к примеру, гайдуки тащат на руках женщину с поникшей головою и мутным взором, похожую на римскую матрону, несомую после трапезы верными фессалийцами. Дама сия страдает нервными болями или обессилена от излишеств и бессонных ночей, ее не в силах вернуть к жизни ни модные комедианты, ни бодрые ангелы, о которых так чудно умеет рассказывать г-жа Дюгазон[59], и поэтому она явилась к ванне Месмера искать то, чего не смогла найти в других местах.
Пусть читатель не думает, что мы преувеличиваем из желания выставить тогдашние нравы в как можно более дурном свете. Разумеется, следует признать, что в те времена они часто бывали не слишком целомудренны и у светских дам, и у девиц из театров. Одни, по принятому в Бретани обычаю, похищали у актерок их приятелей и кузенов, другие отбирали у светских дам их мужей и любовников.

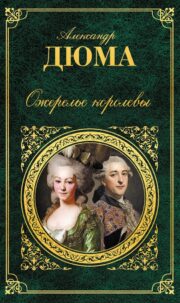
"Ожерелье королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Ожерелье королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Ожерелье королевы" друзьям в соцсетях.