Едва лакей доложил, его высокопреосвященство воскликнул:
– Милейшая графиня!
И ринулся ей навстречу.
Жанна не уклонилась от поцелуев, которыми прелат осыпал ее руки. Она села поудобнее, чтобы легче было выдержать предстоявший ей разговор.
Сначала прелат рассыпался в благодарностях, и его уверения были столь же искренни, сколь красноречивы.
Жанна его остановила.
– Да будет вам известно, – сказала она, – что вы, монсеньор – образец деликатности, и я благодарю вас.
– За что?
– Не за очаровательный подарок, который вы прислали мне нынче утром, а за осмотрительность, которая подсказала вам не отправлять его мне в Версаль. Право, вы весьма деликатны. Вашему сердцу чуждо фатовство, вы великодушны.
– Если уж говорить о чьей-либо деликатности, то лишь о вашей, графиня, – возразил кардинал.
– Вы не просто счастливый человек, – воскликнула Жанна, – вы ликующий небожитель!
– Не спорю, и меня самого пугает мое счастье; оно меня смущает; жизнь прочих людей представляется мне невыносимой. Мне вспоминается языческая легенда о Юпитере, который устал от своего сияния.
Жанна улыбнулась.
– Вы приехали из Версаля? – нетерпеливо спросил он.
– Да.
– Вы… ее видели?
– Я прямо от нее.
– Она ничего… ничего не говорила?
– А что, по-вашему, она могла сказать?
– Простите меня: это не простое любопытство, я едва владею собой!
– Не спрашивайте меня ни о чем.
– Ах, графиня!
– А я говорю вам – нет.
– Какой у вас странный тон! Можно подумать, вы привезли мне дурную весть.
– Монсеньор, не вынуждайте меня говорить.
– Графиня! Графиня!
И кардинал побледнел.
– Чрезмерное счастье, – произнес он, – похоже на высшую точку колеса фортуны: едва кончается взлет, на смену ему тут же начинается спуск. Но если стряслось несчастье, не щадите меня. И все-таки… ничего дурного не случилось?
– По моему разумению, напротив, случилось огромное счастье.
– Что же, что вы имеете в виду? В чем заключается это счастье?
– В том, что нас не обнаружили, – сухо пояснила Жанна.
– А! – И он заулыбался. – Но ведь наши сердца и ваш ум не пренебрегли ни единой предосторожностью и все предусмотрели…
– Никакие сердца и никакой ум, монсеньор, не помешают глазам соглядатая видеть сквозь листву.
– Нас видели! – испуганно вскричал г-н де Роган.
– У меня есть все основания так думать.
– Но если видели, значит, нас узнали?
– Ну нет, монсеньор, вы сами в это не верите: если бы нас узнали, если бы наша тайна оказалась в чужих руках, то Жанна де Валуа уже была бы на краю света, а вам оставалось бы только умереть.
– Это правда. Слушая ваши недомолвки, графиня, я словно поджариваюсь на медленном огне. Ладно, пускай нас видели. Видели людей, прогуливающихся по парку. Разве это запрещено?
– Спросите у короля.
– Король знает?
– Помилуйте, если бы король знал, вы были бы в Бастилии, а я в приюте. Но береженого Бог бережет, и я приехала к вам, чтобы сказать: не искушайте судьбу.
– Как прикажете понимать? – возопил кардинал. – Что означают ваши слова, дорогая графиня?
– Они вам непонятны?
– Мне страшно.
– Мне и самой будет страшно, если вы меня не успокоите.
– Что для этого нужно?
– Не ездите больше в Версаль.
Кардинал подскочил на месте.
– Днем? – с улыбкой спросил он.
– Сперва днем, а потом ночью.
Г-н де Роган задрожал и выпустил руку графини.
– Это невозможно, – изрек он.
– Теперь мой черед просить у вас прямого ответа, – возразила она. – Вы, кажется, сказали «невозможно». Позвольте спросить, почему сие невозможно?
– Потому что в сердце у меня живет такая любовь, которая умрет лишь со мною вместе.
– Оно и видно, – язвительно перебила она. – И вам, по-видимому, не терпится поскорее достичь этого результата, потому вы так настойчиво рветесь снова в парк. Что ж, если вы опять туда явитесь, ваша любовь оборвется – также, как ваша жизнь, причем мгновенно.
– Какие ужасы вы мне рассказываете, графиня! А вчера вы держались отважно!
– Моя храбрость сродни храбрости зверей: я ничего не боюсь, покуда нет опасности.
– А моя храбрость досталась мне в наследство от предков: я счастлив лишь вблизи опасности.
– Превосходно; позвольте все же вам заметить…
– Ни слова, графиня, ни слова! – перебил влюбленный кардинал де Роган. – Жертва принесена, жребий брошен. Любовь превыше всего, а там пусть хоть смерть! Я поеду в Версаль.
– Один? – осведомилась графиня.
– Вы меня покидаете? – с упреком воскликнул прелат.
Сперва я.
– А она придет!
– Вы заблуждаетесь: она не придет.
– Вы извещаете меня об этом от ее имени? – задрожав, спросил кардинал.
– Вот уж полчаса я пытаюсь смягчить для вас этот удар.
– Она не желает меня видеть?
– Отныне и навсегда; я сама ей это посоветовала.
– Сударыня, – с укором произнес прелат, – вы жестоки: вы знаете, как чувствительно сердце, в которое вы погружаете кинжал.
– Куда более жестоко с моей стороны было бы позволить двум безумцам погибнуть, лишив их доброго совета. Я подала совет, а следовать ему или нет – дело ваше.
– Графиня, графиня, лучше умереть!
– Вам виднее; это дело нехитрое.
– Умирать так умирать, – угрюмо проговорил кардинал. – Мне милее всего полная погибель. Я благословляю ад, если там я встречусь с моей сообщницей!
– Святой отец, вы кощунствуете, – заметила графиня. – Подданный, вы развенчиваете королеву! Мужчина, вы губите женщину!
Кардинал схватил графиню за руку и вскричал, как в бреду:
– Признайтесь: она не говорила этого! Она не оттолкнет меня!
– Я говорю с вами от ее имени.
– Она просит прервать свидания на время!
– Толкуйте как вам угодно, но примите во внимание ее приказ.
– Встречаться можно не только в парке. Есть множество более надежных мест. В конце концов, приезжала же королева к вам.
– Монсеньор, ни слова больше: ваша тайна лежит у меня на сердце смертельной тяжестью. Я не в силах более нести это бремя. Если нас не погубят ни ваша нескромность, ни случай, ни злоба врагов, то остаются ведь угрызения совести. Я знаю, что в минуту раскаяния она способна во всем признаться королю.
– Боже милостивый! Возможно ли? – вскричал г-н де Роган. – Неужели она на это решится?
– Если бы вы видели ее сейчас, она бы внушила вам жалость.
Кардинал порывисто вскочил на ноги.
– Что делать? – произнес он.
– Молчать: это ее утешит.
– Она решит, что я забыл ее.
Жанна пожала плечами.
– Она сочтет, что я веду себя низко.
– Ничуть. Какая же низость в том, чтобы ее спасти?
– Может ли женщина простить того, кто сам лишил себя счастья видеться с нею?
– Судите о ней не так, как обо мне.
– Я знаю ее силу и величие. Я люблю ее за отвагу и благородное сердце. Что ж, она может рассчитывать на меня так же, как я рассчитываю на нее. Я должен увидеться с ней в последний раз; я должен излить ей все, что у меня на сердце, потом я свято исполню все, что она решит после того, как меня выслушает.
Жанна поднялась.
– Как вам будет угодно, – сказала она. – Ступайте! Но вы поедете один! Сегодня я бросила в Сену ключ от парка. Отправляйтесь в Версаль, коль скоро вам этого хочется, а я отправлюсь в Швейцарию или Голландию. Чем дальше от бомбы, тем меньше опасность, что меня заденет взрывом.
– Графиня! Вы меня бросите, вы меня покинете? О Господи! С кем же мне говорить о ней?
Тут Жанна припомнила подходящие к случаю места из Мольера, и никогда еще такой обезумевший Валер не подавал столь хитрой Дорине более удобных реплик[135].
– Разве у вас нет парка? Разве в нем нет эха? – отвечала Жанна. – Твердите им имя своей Амариллиады[136].
– Сжальтесь, графиня, я в отчаянии, – отозвался прелат с неподдельной искренностью в голосе.
– Ну что ж, – отвечала Жанна резким и безжалостным тоном, как хирург, решившийся на ампутацию. – Если вы в отчаянии, господин де Роган, выбросьте из головы ребяческие бредни: они опаснее пороха, опаснее чумы, опаснее смерти! Раз эта женщина так дорога вам, пощадите ее, вместо того чтобы губить, и если у вас осталось хоть немного доброты и благодарности, не увлекайте за собой в пропасть тех, кто по дружбе помогал вам. Что до меня, то я с огнем не играю. Клянетесь ли вы две недели, начиная с нынешнего дня, не предпринимать ни единого шага, чтобы увидеть королеву? Просто увидеть, понимаете, не говоря уж о том, чтобы беседовать с нею? Клянетесь? Тогда я остаюсь и смогу вам еще помочь. Или вы решили идти напролом, пренебрегая ее и моей безопасностью? Если я об этом узнаю, то через десять минут меня здесь не будет. А вы уж выпутывайтесь, как сумеете.
– Ужасно! – прошептал г-н де Роган. – Какое сокрушительное падение! Утратить такое блаженство! О, я не переживу этого!
– Будет вам, – промурлыкала Жанна, – в вашей любви больше всего самолюбия.
– Нет, теперь осталась одна любовь, – возразил кардинал.
– Значит, придется вам пострадать, – откликнулась Жанна, – ничего не поделаешь. Ну, монсеньор, решайтесь: оставаться мне? Или катить в Лозанну?
– Оставайтесь, графиня, но сыщите мне болеутоляющее средство: рана слишком мучительна.
– Вы клянетесь, что будете мне повиноваться?
– Слово Рогана!
– Прекрасно. Успокоительное снадобье для вас готово. Я запрещаю вам встречи, но не запрещаю писем.
– В самом деле? – вскричал безумец, оживая от новой надежды. – Мне можно будет ей написать?
– Попробуйте.
– И… она мне ответит?
– Я попробую.
Кардинал осыпал жадными поцелуями руки Жанны и назвал ее своим ангелом-хранителем.
Надо думать, что демон, обитавший в ее душе, изрядно веселился в эту минуту.
12. Ночь
В тот же день, в четыре часа пополудни, на краю парка, позади купальни Аполлона, остановился всадник.
Этот наездник ехал шажком, прогуливаясь ради собственного удовольствия: задумчивый и прекрасный, как Ипполит[137], он отпустил поводья своего скакуна.
Как мы уже сказали, он остановился в том месте, где три ночи кряду оставлял своего коня г-н де Роган. Земля там была изрыта копытами, а вокруг дуба, к стволу которого привязывали уздечку, все кусты были общипаны.
Наездник соскочил на землю.
– Не поздоровилось этой лужайке, – заметил он.
Затем он приблизился к стене.
– Вот следы штурма: калитку недавно отпирали. Так я и думал. Тот, кто воевал с индейцами в саваннах, как-нибудь разберется в следах людей и лошадей. Итак, господин де Шарни вернулся две недели тому назад; эти две недели господина де Шарни никто не видел. А вот и калитка, которую господин де Шарни избрал, чтобы проникнуть в Версаль.
Эти слова сопровождались горестным вздохом, словно у говорившего душа разрывалась на части.
– Уступим счастье тому, кто явился нам на смену, – прошептал наездник, рассматривая красноречивые следы на траве и стене. – Одним Бог дает, а у других отнимает. Не зря он вознаграждает одних и карает других, да святится воля его. И все-таки нужны доказательства. Но откуда и какой ценой их добыть? Да это же легче легкого! В ночной темноте никто не обнаружит человека, прячущегося в кустах, и он из своего укрытия увидит тех, кто сюда явится. Нынче вечером я притаюсь здесь в кустах.
Подобрав поводья скакуна, наездник не спеша сел в седло и тем же неторопливым шагом удалился, завернув за угол ограды.
Что до Шарни, то, исполняя приказ королевы, он весь день сидел, затворившись у себя, и ожидал от нее весточки.
Наступила ночь, но он так ничего и не дождался. Шарни сидел у окна павильона, но не у того, которое выходило в парк, а у другого окна той же комнаты, обращенного на узкую улочку. Королева сказала: «У дверей егермейстерского дома», но в этом павильоне двери служили одновременно и окнами первого этажа. Во всяком случае, они были остеклены.
Он вглядывался в беспросветную темноту в надежде с минуты на минуту услышать топот коня или торопливые шаги гонца.
Пробило половину одиннадцатого. Никого. Королева подшутила над ним. Она просто поддалась первому порыву, вызванному изумлением. Устыдясь, она пообещала то, что не в силах оказалось исполнить; а может быть, как это ни чудовищно, она, обещая, знала, что не сдержит слова.
Шарни, который, подобно всем влюбленным, легко склонялся к подозрениям, уже упрекал себя за излишнюю доверчивость.
– Как я мог после того, как сам все видел, поверить басне и вопреки очевидности, вопреки своей уверенности поддаться глупой надежде!
Снова и снова он яростно осыпал себя жестокими упреками; вдруг его внимание привлек шорох, произведенный пригоршней песка, которую бросили в другое окно, выходившее в парк; Шарни ринулся туда.

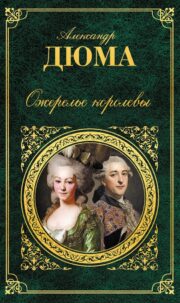
"Ожерелье королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Ожерелье королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Ожерелье королевы" друзьям в соцсетях.