Сеттер слушал и, казалось, понимал слова хозяина. Свет убывал в темной мастерской, в которой чугунная дверца фаянсовой печки раскалилась докрасна. Служанка внесла лампы. Наступило молчание. Антуан де Берсен заговорил снова:
— И какого черта природа наградила меня талантом? Очень мне это было нужно, скажи, пожалуйста? Теперь уж мне не вырваться. Ну разве на самом деле я был создан для жертв, которых требует служение искусству? Ах, я сам знаю, оно вознаграждается, конечно. Делаешься знаменитым. Получаешь кресты, почести. Зарабатываешь деньги. Ну а потом? Когда всего этого достигнешь, будешь старым, потрепанным, отжившим. Время пройдет, и ничего не получишь из того, чего хотел. Не было любви к тем, кого нужно было любить; глупо упущено то, что было бы наслаждением, радостью, счастьем…
В голосе Антуана де Берсена слышался сдержанный гнев, непривычная горечь. Андре знал уже этот парадокс художника, но сегодня Антуан говорил с такой искренностью, что Андре был тронут. Ему хотелось бы узнать о причине такого наплыва печали. Антуан де Берсен страдал. Андре схватил его за руку. Он робко прошептал:
— Что с вами, Антуан?
Обычно Андре Моваль был на «ты» с Берсеном. С первых их встреч Антуан установил привычку этого «ты», но в эту минуту оно казалось Андре неуместным. Ему думалось, что слово «вы» показывает больше уважения к горю друга и ставит разговор выше тона легкой дружбы, установившегося в их обычных отношениях. Антуан де Берсен почувствовал этот оттенок.
— Да, дорогой Андре, я знаю, что вы меня очень любите и что у вас доброе сердце. Простите меня за эти смешные жалобы, но сегодня мне не по себе. Дело, видите ли, в том, что третьего дня у меня произошла встреча, которая очень тягостна для меня. Из-за нее я был болен всю ночь. Но я не знаю, мой бедный Андре, зачем я вам все это рассказываю. Ну да все равно — это меня облегчит…
В тот год, когда Антуан де Берсен отбывал воинскую повинность в Пуатье, он был очень радушно принят одним старинным другом своего отца. Этот друг был вдовец и имел дочь двадцати лет. Вскоре у молодых людей появилась друг к другу большая склонность. Отец не сделал ничего, чтобы помешать возникновению этой страсти, которая могла привести лишь к браку, вполне подходящему для обеих сторон. Разве Антуан де Берсен не был свободен, достаточно богат, чтобы жениться по своему желанию, и он чувствовал, что предложение его будет принято. Прелестная, веселая, остроумная девушка бесконечно нравилась ему. Ему оставалось лишь произнести одно слово; но у него были свои взгляды на женитьбу. Художник должен принадлежать только искусству. Брак — это помеха, обуза, цепь, гибель свободы, столь необходимой для развития таланта. Это — самоубийство. В этом он был непреклонен в силу одного из тех слепых, нелепых, предвзятых мнений юности, которых не опровергнет ни один довод. Это было догматом его художнической веры, и он счел бы себя обесчещенным в собственных глазах, если бы отказался от него. Раз он решился не жениться, ему следовало бы удалиться; но, если решение его и было твердым, то и любовь его была истинной. Он стал колебаться. В такой нерешительности он дожил до последнего срока своей службы. Тогда ему пришлось объясниться. Произошло тягостное, мучительное объяснение, и он уехал с разбитым сердцем, но гордясь жертвой, принесенной принципу, казавшемуся ему тогда неоспоримым. Первое время разлуки было тяжелым, затем Антуан приехал в Париж. Тут от трудолюбивой жизни, которую он вел, от радостной возможности всецело отдаться изучению искусства, его сожаление улеглось понемногу, так что он почти без волнения услышал полтора года спустя о замужестве той девушки. Так как отец ее умер, не оставив никаких средств, она вышла замуж за человека гораздо старше ее. С тех пор она жила в провинции, и он ничего не слыхал о ней, но третьего дня, переходя через площадь Сен-Жермен-де-Пре, он увидел ее, проезжавшую в экипаже. Она не заметила его, но он узнал ее, и, странное дело, эта встреча пробудила в нем чувства, которые он считал угасшими. Он думал о ней всю ночь. Он захворал от этого, но теперь все прошло, ему стало легче…
Антуан де Берсен внезапно встал с дивана. Он дружески похлопал Андре по плечу. Они помолчали с минуту, потом Антуан нагнулся и дернул за хвост сеттера, который залаял. Алиса закричала им через полуоткрытую дверь:
— Я вам не помешаю?
Антуан взглянул на Андре, как бы прося держать в тайне все, в чем он ему признался, и ответил:
— Нисколько. Я собирался показать Мовалю этюды, которые здесь у меня. Вот, Андре, в той папке на столе…
На больших синеватых листах выделялись смело набросанные карандашом обнаженные фигуры прекрасного и тонкого рисунка. Антуан де Берсен указал на одну из них пальцем.
— Ты не узнаешь Франсуазы, Франсуазы Буржю, подруги Алисы?
Андре покраснел. Он вспомнил. Алиса нагнулась и произнесла с презрением:
— У нее отвратительные ноги.
Антуан де Берсен пожал плечами. Не переставая перебирать содержимое папки, Андре спрашивал себя, почему его друг взял к себе в дом эту маленькую особу, правда, красивую, но с большими претензиями и со спесью. Если у Берсена была такая сильная наклонность к совместной жизни, почему он не женился на той девушке, которую он любил и продолжал любить, судя по волнению, испытанному им при встрече с ней. И Андре представил себе эту неизвестную, о которой он ничего не знал, даже имя которой ему было незнакомо. Ей, а не Алисе, следовало бы быть тут сейчас. Вдруг он вздрогнул. Часы пробили шесть. Он оставил папку и сказал:
— Я должен уйти.
И он с сожалением прибавил:
— Сегодня день дядюшки Гюбера.
Антуан, который обычно охотно смеялся над Андре Мовалем по поводу дядюшки, не возразил ничего. В это мгновение он чувствовал к Андре особенное дружеское расположение.
— Все-таки эти вечера с добрым дядюшкой не должны быть занятными… Но я тебя не задерживаю. Семья есть семья.
М-ль Алиса Ланкеро согласилась с этим, и когда Андре прощался с ней, она пожала ему руку с большей торжественностью, чем всегда, как и подобает по отношению к человеку, отправляющемуся обедать с дядей, отставным военным, награжденным медалью за итальянскую войну. В самом деле, хотя м-ль Алиса Ланкеро, по прискорбному безрассудству, рано покинула отчий дом, отдавшись веселой жизни, она была исполнена уважения к семье вообще и к своей собственной особенно. Не проходило дня без того, чтобы она не восхваляла перед своим любовником достоинств Ланкеро, ее отца, бывшего страховым агентом, и г-жи Ланкеро, урожденной Могон, людей выдающихся, безукоризненной честности, которыми она гордилась. Впрочем, за неимением дяди Гюбера, у нее была тетка, м-ль Клемантина Могон, украшенная академическими пальмами, начальница привилегированного учебного заведения в Блуа, куда собирались девицы лучшего общества со всего округа, чтобы почерпнуть познания, необходимые современной женщине. Тем не менее, несмотря на такую почтенную родню, м-ль Алиса Ланкеро убежала от отца и матери и последовала за неким молодым приказчиком, передавшим ее, после недолгой связи с ней, одному из своих друзей, архитектору, которого она бросила ради разных других обожателей. Эти разнообразные приключения и еще многие другие делали существование м-ль Ланкеро довольно бурным до того дня, как она познакомилась с Антуаном де Берсеном. В ту минуту своей жизни м-ль Ланкеро находилась в некотором затруднении, будучи без пристанища и без средств. Тогда-то ее и нашел Эли Древе и указал на нее Берсену. Художник заинтересовался ею, потом, пораженный ее умом и ее относительной культурностью, решился оставить ее у себя, потешаясь любопытной смесью развращенности и неприступности, обнаруживаемых ею, смесью инстинктов девки с наклонностями буржуазки, распущенности с жеманством, делавшей из нее характер забавный для наблюдения, тем более что тело ее было приятно на вид и совсем не противно на ощупь.
V
Бесспорно, при рождении Андре г-жа Моваль была счастлива тем, что имела сына. Она посмотрела с нежностью и любопытством на маленький комок мяса, болтавший ножками на руках у сиделки, потом голова ее снова упала на подушку, и она закрыла глаза. Ослабевшая и усталая, она хранила в своей мысли образ маленького красноватого тельца. Оно напоминало ей, по неожиданной ассоциации идей, маленькие фигурки, нарисованные на вазе, часто виденной ею на выставке одного антиквара, на улице Сены. Поэтому она не удивилась бы, если бы на спине новорожденного выросли крылышки, похожие на крылья этрусских гениев, украшавших черный фон выпуклой части античного кратера. И даже маленькое существо, которое она только что произвела на свет, казалось ей до того сказочным, что она не поразилась бы, видя его летающим под потолком. Но нет, в своем полусне она слышала реальное существо, кричавшее в соседней комнате громко и пронзительно. Она не грезила. Она сделалась матерью мальчика, сына, человека. И, засыпая, она взволнованно думала, что возле нее возникает жизнь со всей ее будущей историей и ее судьбой. Да, этот ребенок вырастет, в нем проявятся личность, наклонности, страсти. Он станет кем-то. У него уже было имя. Он был самим собой. Эти размышления, вместо того чтобы обрадовать ее, привели ее в ужас, и она проснулась, почти плача. Будущее показалось ей наполненным кознями, заботами, опасностью. Сколько ловушек предстоит избегнуть, сколько трудностей преодолеть! Но вместе со страхом, сжавшим ее сердце перед перспективой предстоящей борьбы, она испытала большую гордость. Для того чтобы это слабое существо могло расти и развиваться, сколько стихий было призвано к делу! Весь мир станет помогать этой работе. Воздух, огонь, свет, животные, растения соединятся для того, чтобы доставлять ему силу. На все человечество будет наложена дань. Одна женщина уже находилась здесь, чтобы предоставить его потребностям соки своего тела. В мастерских, на заводах люди будут работать на него, и он вырастет под покровительством всеобщего старания. Он уже составлял часть целого мира. Когда-нибудь он полюбит формы, цвета, пейзажи, существа. Он будет любить и станет любимым, и г-жа Моваль почувствовала в своем сердце укол материнской ревности.
В продолжение недель своего выздоровления г-жа Моваль, которую утомляли эти заботы о будущем, соединяла с ними воспоминания о своей прошлой жизни. Ей казалось, что целая часть этой жизни только что закончилась событием, открывшим в ней новый период, и она вновь видела в отдалении, одновременно и грустном и милом, исчезнувшие лица и далекие вещи.
Г-жа Моваль родилась в Париже, но, как она сама говорила, улыбаясь, от этого она совсем не стала парижанкой. Правда, ее родители переехали в столицу лишь незадолго до рождения дочери: смерть старшего сына заставила их покинуть провинцию, где жить им стало невыносимо. В Париже г-н и г-жа де Клавьер стали продолжать то же скромное и замкнутое существование, которое они вели в Лане, ничего не изменив в своих прочно сложившихся привычках. В их дочери от этого рода жизни сохранилось нечто провинциальное. Она никогда не могла привыкнуть к Парижу. Еще ребенком она боялась шумных улиц, многолюдных площадей, экипажей, прохожих. Ей нужен был покой одного из тех городков, в которых шум колес на улице или шаги по тротуару заставляют с любопытством отодвигаться тюлевые занавески на окнах. Когда отец водил ее гулять, ее мучила мысль, что они никогда не найдут дорогу домой. Когда мать ходила с ней в какой-нибудь общественный сад, боязнь заблудиться портила все удовольствие. Она чувствовала себя хорошо только дома, среди старой знакомой мебели, в том покойном квартале на левом берегу, где г-н и г-жа де Клавьер по приезде наняли квартиру на улице Фюрстенберг, за церковью Сен-Жермен-де-Пре. Лишь там ей было хорошо. Ее родители были набожными, добрыми и печальными людьми; квартира их была обширна и натиралась воском. Редко у их двери раздавался звонок. Г-н и г-жа де Клавьер имели мало знакомых. Здоровье г-жи де Клавьер требовало неустанных забот; при этом у бедной женщины был определенный взгляд на свои болезни. Ей никогда и в голову не приходило посоветоваться с каким-нибудь другим врачом, кроме доктора Лебона, жившего по соседству, в переулке Бюси, и бывшего врачом их квартала. Точно так же и г-н де Клавьер часто говорил о каком-нибудь человеке: «Он из нашего или не из нашего прихода». Такое церковное подразделение Парижа было единственным, которое он принимал во внимание. Так что одной из причин, побудивших г-на и г-жу де Клавьер выдать дочь за г-на Александра Моваля, было то обстоятельство, что г-н Моваль был из их прихода. Уже в то время г-н Моваль жил на улице Бо-з-Ар. Хотя он и не был особенно усердным прихожанином, молодой человек был представлен Клавьерам Сен-Жерменским священником. Аббат Рикар знал его с давних пор и мог поручиться за его в сущности набожные чувства. Кроме того, молодой Моваль был из хорошей семьи, обладал некоторым состоянием и занимал в Мореходном Обществе место, не лишенное будущности и не требовавшее отлучек. И вот молодых людей представили друг другу. М-ль де Клавьер понравилась г-ну Мовалю, который не был ей противен. Выждав из предосторожности некоторое время, г-н Моваль сделал предложение, которое было принято, и их повенчали. Г-н и г-жа де Клавьер не долго жили после этого обряда. Шесть месяцев спустя тихо скончалась г-жа де Клавьер, а через год умер в свою очередь г-н де Клавьер. Г-жа Моваль была страшно огорчена этой двойной потерей. Она испытала ужасное чувство одиночества. Г-н Моваль выиграл от нравственного одиночества, в котором оказалась его жена. Она питала к своему мужу сильную привязанность и нежность, и сверх того она перенесла на него то почтение, с которым она относилась к отцу и матери. Разве он не стал ее единственной опорой, ее единственной поддержкой? И она признала за ним, во всех его поступках и помыслах, первенство, которое, впрочем, г-н Моваль считал вполне естественным и должным как ввиду своего положения главы семьи, так и ввиду своих личных достоинств.

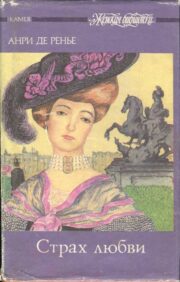
"Первая страсть" отзывы
Отзывы читателей о книге "Первая страсть". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Первая страсть" друзьям в соцсетях.