Они проехали мимо церкви — Мона заметила на кладбище несколько светлых, совсем новых на вид памятников… А вот и ворота! Ворота Аббатства — такие же, какими они ей запомнились: потемневшие от времени, явно нуждающиеся в покраске. Но что за беда — главное, что они, как всегда, гостеприимно открыты!
Двуколка двинулась по заросшей аллее, меж рододендронов вперемешку с зеленым и красным остролистом. Дубы, когда-то окаймлявшие аллею двумя строгими рядами, теперь беспорядочно разрослись, а иным из них нанесли жестокий урон время, бури и молнии.
А вот и дом — во всей своей неброской прелести: старинный елизаветинский особняк, до самой крыши оплетенный плющом, изящные очертания окон с каменными средниками, под островерхим козырьком крыльца — дубовая дверь с медными гвоздиками.
«Дом, милый дом! — подумала Мона. — А это кто? Да это же мама стоит на крыльце! И на лице у нее — такая радость, такая нежность…»
Поднявшись наверх, Мона устало стянула с головы шляпку. Старая спальня казалась очень маленькой, но, как ни смешно, Мона едва не прыгала от счастья, снова оказавшись здесь. В глубине души она боялась, что мать поселит ее в комнате для гостей. Не глупо ли было хоть на миг вообразить, что такая мысль может прийти маме в голову?
В Аббатстве все держится на обычаях и традициях: можно уехать на много лет — и, вернувшись, никаких перемен не обнаружить. Вот и в ее девичьей спальне ровным счетом ничего не изменилось: даже все безделушки стояли на своих местах.
Мона оглядела комнату. Да-да, все точно как было. Даже на каминной полке по-прежнему стоит поросенок с гербом Брайтонов на спине! Кровать под ситцевым пологом, голубые шторы — кажется, чуть выцветшие, — туалетный столик и на нем голубая скатерть с оборками, серебряные подсвечники у кровати — ничто не забыто… и все неизменно.
«Вот и я дома, — сказала себе Мона, — и что ж, пока что очень этим довольна».
Просто счастье, что можно наконец расслабиться! Не блистать остроумием, не сиять наклеенной улыбкой под взглядами холодных расчетливых глаз, под прицелом безостановочно мелющих злых языков…
Вдруг ей отчаянно захотелось, чтобы этот дом, тихий и уютный, остался ее единственным домом. Захотелось снова стать деревенской девочкой. А ту, другую Мону — светскую, блистательную, утонченную — спрятать бы в шкаф вместе с норковой шубой и забыть о ней навсегда!
«Надо найти какую-нибудь подходящую одежду», — подумала она, вспомнив о горах шифона, бархата, шелков и каракуля, смиренно ждущих сейчас на станции, когда их привезут сюда в телеге для угля.
Нет, для здешней жизни все это не подойдет! Даже распаковывать их незачем — все это никогда больше ей не понадобится. Достаточно будет старой твидовой юбки, пары свитеров и теплых ботинок…
— Вот только ничего такого у меня нет! — проговорила Мона вслух.
— Чего это у тебя нет, милочка? — послышался голос из-за двери, и в комнату вошла няня.
— Подходящей одежды.
— Неужто ты ничего с собой не привезла? — удивилась няня. — Ну, не страшно: наденешь что-нибудь из старых своих вещичек, что я убрала в шкаф.
— Каких вещичек?
— Твидовых, что ты носила до замужества. И еще твой любимый халат — помнишь, черный, с кружевным воротником?
— Ах, няня, неужели ты их сохранила?
— Ну конечно же — знала, как ты им обрадуешься! Все эти дорогие модные штучки хороши на балах, а дома ничего нет лучше того, что много лет носишь и любишь.
— Спасибо тебе, няня! Я об этом и мечтать не могла!
— Только придется их ушить, — заметила няня, неодобрительно качая головой. — От тебя, можно сказать, одни глаза остались! Чем ты, милочка моя, занималась все эти годы? Не иначе, как в народе говорят, жгла свечу с обоих концов!
— Именно так, — с грустной улыбкой ответила Мона. — И если бы ты только знала, няня, как ярко горела моя свеча!
Старушка фыркнула.
— Ты никогда ни в чем не знала меры! Этакая неугомонная! Но теперь-то ты дома — уж мы тебя откормим… хотя, видит бог, не знаю чем! Масла нынче не найдешь, да и сахара тоже. Я уже говорила твоей матери: в наши дни не знаешь, как и гостей-то принять — совсем угостить нечем!
Мона вдруг крепко обняла няню и поцеловала ее в морщинистую щеку.
— Няня, милая, как же хорошо дома!
— Да уж, еще бы! Давненько ты дома не была — в будущем апреле пять лет исполнится!
— Неужели столько времени прошло?!
— Да, столько времени прошло! — передразнила ее няня. — Я и матери твоей говорила: просто неприлично на много лет забывать о родных… но разве ж она меня послушает? Я ей говорю: «Напишите ей и велите вернуться», а она все свое: «Не надо, няня, ей там хорошо, она отлично проводит время. Именно об этом я всегда мечтала для своей дочери — чтобы она ездила по интересным местам, общалась с достойными людьми…»
Мона резко отвернулась. «С достойными людьми!» С губ ее рвался горький смешок. Если бы мама только знала…
Что бы она подумала о… Но нет, нет, нечего об этом думать: все прошло, все эти люди исчезли из ее жизни, остались навсегда закрытой главой. Она старалась забыть даже их имена. Немного времени, немного усилий — и все это изгладится из ее памяти.
Нет, конечно, не все — никогда она не сможет забыть Лайонела и то, что было между ними…
— Детка моя, ты что-то загрустила, — послышался голос няни.
— Загрустила? — отозвалась Мона. — Что ты, вовсе нет!
«Загрустила»… Что за глупое слово? Кто станет «грустить» оттого, что жизнь его разбита вдребезги? От этого не «грустят». От такого человек как будто утрачивает все чувства: он потрясен до основания, все кажется ему нереальным — он живет, словно в каком-то аду, лишенный права даже на скорбь.
— Я не грущу, — повторила она. — Я счастлива — счастлива, что вернулась домой. Пойдем вниз. Где мама?
— Готовит тебе чай.
— А что же, слуг больше нет?
— По утрам приходит одна женщина, помогает прибраться в доме. Замужняя, конечно, — незамужние теперь все на заводах да в полях работают. А в остальное время мы с твоей матерью сами справляемся.
— Боже мой! Как же вы вдвоем убираете целый дом?
— Большую часть комнат мы закрыли, — объяснила няня. — В начале войны у нас там жили эвакуированные, но теперь все вернулись в Лондон. Говорят, у нас тут тоска зеленая. Одна дуреха так и говорит: лучше, мол, помереть от бомбы, чем от скуки. Вот нахалка! Жаловалась, что у нас тут негде патлы ее завивать. Если снова начнут бомбить, может, примем к себе каких-нибудь детей, но пока что комнаты стоят пустые. Раз в месяц я их проветриваю, а все остальное время они стоят запертые.
— Может быть, это и к лучшему, — заметила Мона. — Дом всегда был слишком велик для нас — точнее, для наших доходов.
— А еще твоя матушка сдала сторожку. Не говорила тебе?
— Нет, никаких местных новостей я пока не слышала. А кому сдала?
— Какой-то писательнице, — ответила няня. — Дом ее в Лондоне разбомбили, а у нее трое маленьких детей. И муж, конечно: он тоже здесь, летчик, на аэродроме служит. Уж и не знаю, как они все там умещаются — сторожка-то такая крохотная, там и старику Ходжу с его старухой было тесно!
— А с ними что случилось?
— Умерли оба. Уже давно. Подхватили воспаление легких — и так, один за другим, в одну зиму и отдали богу душу.
— Да, я заметила на кладбище новые могилы.
— Не только они умерли за эти годы, — проговорила няня.
— Няня, поговорить о смерти мы еще успеем! — прервала ее Мона. — Я знаю, похороны в Литтл-Коббле — любимое развлечение, но сначала я хочу послушать о том, кто родился, а тех, кто умер, оставлю на потом.
Она вышла из комнаты и спустилась вниз по широкой дубовой лестнице с массивными резными перилами, видевшими времена королевы Елизаветы.
Лучи солнца, просачиваясь в холл сквозь цветное стекло, освещали просторное помещение странным призрачным светом. У подножия лестницы, в сумрачной полутьме, застыли два геральдических леопарда.
Мона отворила дверь в гостиную. Эта была длинная комната с низким потолком: над открытым камином здесь располагалась единственная достопримечательность Аббатства — портрет первого Вейла, владельца особняка, кисти Ван Дейка.
Миссис Вейл — невысокая, хрупкая, уже совсем седая, но бодрая и энергичная — разливала чай у камина. Услышав шаги, она обернулась к дочери и улыбнулась ей. Лицо ее, хранившее отблеск былой красоты, светилось добротой и любовью.
— Входи, милая, — пригласила она. — Я тебе поджарила тосты с маслом. Должно быть, ты проголодалась в пути. Хотела бы я угостить тебя омлетом, да только куры у нас отказываются нестись вот уже три дня — только сегодня с няней говорили, как нарочно к твоему приезду!
— Ничего страшного, все равно бы я не смогла сейчас есть.
— И все же хотела бы я предложить тебе что-то посытнее хлеба с маслом! Милая, теперь, когда ты дома, тебе надо хорошо есть — ты совсем исхудала!
— Стройность сейчас в моде, — легкомысленно откликнулась Мона.
— Стройность, но не истощение же! — ответила мать. — Пухленькой ты никогда не была, но сейчас щеки у тебя просто как…
— Просто скажи, что на меня страшно смотреть, и на этом закроем тему.
Мать нежно улыбнулась:
— Глупенькая, ты у меня всегда была красавицей! Я просто хочу, чтобы ты стала еще красивее. Тем более тебя так долго не было, что теперь я собираюсь всем-всем тебя показать!
— Господи боже! Кому показать?
— Всем друзьям и знакомым, — гордо отвечала миссис Вейл. — Ты не представляешь, как все обрадовались, услышав, что ты приезжаешь!
Мона взяла с блюда поджаренный ломтик хлеба.
— Неудивительно — теперь им есть о чем поговорить. С тех пор как я уехала, они, должно быть, только и ждут нового скандала.
— Милая, не говори так! — упрекнула ее мать. — Ты же знаешь, то… мм… происшествие уже совершенно забыто! Да многие здесь ничего и не знали — это ведь лондонские желтые газетенки подняли шум, а сюда почти ничего и не доходило… И потом, с тех пор ты успела выйти замуж!
— И овдоветь, — добавила Мона.
— Да, дорогая. Бедный Нед! А его родные так и не желают с тобой общаться?
— Ни слова от них не слышала.
— Не так давно я видела в газете что-то насчет его матери, — не унималась миссис Вейл. — Кажется, она организовала благотворительную ярмарку или что-то в этом роде.
— Очень может быть. Утомительная женщина, мне она никогда не нравилась.
— Бедняжка, мне ее жаль! Потерять единственного сына — и таким ужасным образом! И все же, мне кажется, это не извиняет того, что она тебе написала. Право, можно подумать, это ты его подтолкнула так глупо рисковать жизнью!
— Может, так оно и было, — проговорила Мона словно про себя.
— Милая, не говори так! — взмолилась мать. — Вечно ты стараешься выставить себя хуже, чем есть!
— Куда уж хуже.
— Мона!
— Прости, мама. Так ты говорила о том, как все радуются моему приезду и как тебе не терпится показать меня всем твоим друзьям. И как же мне одеться — в рубище, как кающейся грешнице?
— Милая, да что с тобой? Отчего ты такая злая?
— Прости, мамочка. Злая, это верно. — Поднявшись, Мона положила руку матери на плечо и нежно ее поцеловала. — В самом деле, я шучу глупо и зло, но это все от стыда…
— От стыда?
— Хорошо-хорошо, от смущения. Я ведь так давно не была дома!
— И все же это твой дом, и все эти годы он ждал твоего возвращения.
— Да, наверное. Дом, милый дом, — где бы я ни была, что бы ни делала, он ждал… и вот дождался. Наконец я здесь! И, хотя и боюсь немного, все же счастлива оттого, что вернулась домой.
— Боишься? Чего же тебе бояться?
— Разве я сказала «боюсь»? — быстро ответила Мона. — Что за глупое слово! Не слушай меня, мамочка. Лучше продолжай — ты начала мне рассказывать о своих друзьях. Так кому же ты собираешься меня показывать?
— Ну, во-первых, Майклу…
— Майклу? Конечно же, совсем о нем забыла! Подожди-ка, а он все еще здесь?
— Разумеется, дорогая моя, где же ему еще быть?
— Честно говоря, я об этом не думала. А разве он не в армии?
— Мона, я же тебе обо всем этом писала! Его ранило в Дюнкерке, у него теперь не сгибается нога. Боюсь, он, бедняга, так и останется хромым. Как он ни бился, чтобы вернуться в строй, все напрасно — его комиссовали вчистую, и пришлось ему вернуться к нашим полям и огородам. И очень хорошо, я считаю: ведь, пока он был на фронте, поместье его совсем пришло в упадок!
— Майкл! — негромко повторила Мона. — Знаешь, мама, все эти годы я о нем не вспоминала — и все же, мне кажется, наш Литтл-Коббл не был бы самим собой, не будь Коббл-Парка и в нем — Майкла.

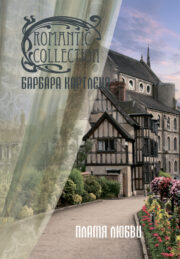
"Пламя любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Пламя любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Пламя любви" друзьям в соцсетях.