Завернув за угол, девочки горячо попрощались, словно они не встретятся в понедельник, и пошли в разные стороны. Некоторые из них зашли в кафе-мороженое. Я видела их лица в зеркалах, они изучали меню.
Этого кафе не было, когда я училась в школе. Вместо него была мастерская по ремонту домашних электроприборов. От находившегося рядом рыбного магазина запах распространялся по всему кварталу. Должно быть, это раздражало всех соседей, но мама говорила, что это будет длиться недолго. Видеоклуб здесь тоже долго не продержался, а закусочная еще меньше. На этом месте раньше был магазин шляп, но я никогда не видела, чтобы туда кто-нибудь заходил, а тем более мерил шляпы. Вместо закусочной сейчас был прокат машин «Remi's». По какой-то непонятной причине хозяева подобных заведений обожали эту «кавычку» из английского и французского языков; они не умели ее правильно использовать, делали ошибки в числе и роде артиклей, но давали такие названия, как «L'Mirage», «Deluxe's», «Le Voiture». Казалось, они думали: «Пусть все останется, как есть, но зато мы дадим впечатляющее название». Перед моим домом, где раньше была кооперация, возвышалось «Бинго». «Бинго» было для соседей настоящим Лас-Вегасом. Как и для меня здание Конгресса, до того как я побывала в Европе.
Я позвонила и стала ждать. Посмотрелась в дверное стекло: надо было накраситься. Грасиэла открыла мне дверь.
Это была парагвайская девушка моего возраста, но казалось, что она лет на десять меня старше. Она не была страшненькой. Интересно, есть ли у нее жених. Мама заставляла ее носить специальную форму, которую купила в магазине «Онсе»; одна синяя, другая черная в мелкий белый горошек, по крайней мере, эти модели мне нравились. Сегодня на ней была синяя, которая ей больше шла.
– Привет, Вики, – только в этом доме меня называли Вики, – сеньора в парикмахерской напротив, – и она указала в сторону парикмахерской «Альдо'с».
Солнце «сияло сквозь окна со стороны сада, и шум жарящегося мяса смешивался с пением птиц. Грасиэла оставила недорезанный салат на деревянном столике.
Я засунула руку в сумку для хлеба: хлебцы, поджаренные и хрустящие. Мама всегда посылала меня в булочную с этой сумкой с белыми и черными квадратиками, которые составляли слово «хлеб». Когда вернется Августин, я возобновлю эту традицию: пошлю его в булочную Санта-Фе с такой же сумкой. Я положила хлебец обратно в сумку и посмотрела через окно в сад. За несколько месяцев до того, как родился Августин, Диего покрасил в желтый цвет гамак и в красный – качели, на которых я качалась еще в детстве. 'Но сейчас, когда мы приходили в гости, Августин только смотрел телевизор и не выходил в сад.
«С завтрашнего дня прекращаю думать о Сантьяго», – сказала я себе таким же тоном, каким поздравляла себя с тем, что смогла удержаться и не съесть хлеб. Я заглянула в гостиную, которую всегда запирали на ключ – «чтобы грязь не носили», – говорила мама. Сейчас не было необходимости закрывать ее, но там, рядом с раздвижной дверью, были дорожки. Моя мать ходила по полу, застланному плюшевыми дорожками, и надевала на кресла белые чехлы, которые служили вторым покрытием. Когда приходили гости, она снимала чехлы и убирала дорожки. Иногда, в особых случаях, она доставала серебряные приборы и бабушкины бокалы. Но я не была таким случаем.
Пыль и свет проникали в комнату моих родителей. Мне казалось, что я вижу своего отца, облокотившегося на спинку кровати и читающего газету, ожидая приглашения к столу; он забрался на кровать в обуви, будто специально, чтобы позлить маму. Последний раз, когда я его видела, он и был в этой самой кровати, из-под одеяла торчали только лицо и руки, а кожа была бледная и вся в пятнах.
Он умер во сне – так сказала мама. «Как бабушка», – подумала я. Но я уже знала, что такое смерть. Одно дело уснуть, другое – умереть.
В душе я благодарила его за такую смерть – внезапную и молчаливую, – мне не пришлось наблюдать, как он стареет, не пришлось это осознавать, мне оставалось просто любить его. Сейчас моя мама могла стать воплощением того, что я любила. Она могла сказать: у папы было превосходное чувство юмора, папа был всегда очень строгий, папе никогда не нравились твои женихи, ему нравилась Эспередина и финики в сиропе. Это была ложь, но никто не осмеливался ее отрицать, даже сама мама.
Последний номер журнала «Ола» лежал на банкетке рядом с ночным столиком мамы. Он был открыт на странице со статьей о Максиме Соррегиете, аргентинской принцессе в Голландии, одетой в свадебное платье. Я закрыла журнал и открыла ящик: успокоительное, снотворное. Пока отец был жив, мама глотала эти таблетки, как конфеты. Наверное, она перестала принимать их после его смерти.
На комоде стояли две свечи. Подобие маленького алтаря Богородицы Розарии Сан Николас – аргентинской святой, последней, которая творила чудеса; рядом лежал молитвенник и сухая ветка оливкового дерева, которую мама меняла каждое Вербное воскресенье. Фотографии в серебряных рамках или, скорее всего, в рамках из стали: Августин в саду на красных качелях; Августин в Мар-дель-Плата, перед замком из песка, который построил не он. Виргиния, задувающая свечи на свой шестой день рождения; Виргиния – выпускница седьмого класса, обнимающая своих родителей (мама с высокой прической, папа еще не седой, в синем костюме и с галстуком); Виргиния у французской новогодней елки, ее первое Рождество вне дома.
«В детстве мы такие, какие мы есть на самом деле», – говорил Джон Ирвинг в какой-то передаче. Я посмотрела на все эти фотографии, затем в зеркало над комодом. Кем я была до Сантьяго, до Диего? Кем я была до Августина? Кем я хотела стать? Я надавила на прыщик около носа, и на стекле образовалось маленькое пятнышко, которое я стерла рукой.
В этой комнате заканчивалось путешествие в страну без секса. Дом моих родителей был как Пингелап, остров людей, не различающих цвета-, о котором рассказывал Оливер Сакс. Вся культура ахроматическая, со своими собственными вкусами, искусством, манерой одеваться и готовить. «Это совершенно не значит, что она беднее и неустойчивее», – говорил Сакс. Но мне жизнь моих родителей никогда не казалась насыщенной и устойчивой. Феномен этого острова заключался в микронезии, которая охватила шесть или семь поколений: они не могли различать цвета, но хорошо распознавали бананы и вообще отлично знали географию острова; в их понимании их визуальный мир был полноценный. Что больше всего их удивляло, так это количество пространства, которое занимают у всего остального мира оттенки разных цветов.
Это тоже была ложь; возможно, первая ложь, которая причинила мне настоящую боль, когда я узнала, что мои родители занимались любовью на этой кровати, пока я спала. По крайней мере один раз они это точно делали. Я вспоминала, как однажды ночью стояла за дверью: я хотела увидеть или услышать что-нибудь, но они только читали газеты или журналы; мама первая начала свои действия (я услышала звук поцелуя) и погасила свой ночник, через несколько минут отец погасил свой. Вздохи заполняли все пространство, соединяясь и отделяясь, как в каноне. И единственное, что я услышала немного погодя, – это как журналы падают с кровати и ударяются об пол, и еще позже, когда я уже вернулась в свою комнату, – шаги папы или мамы по направлению к ванной и шум воды.
Мама никогда не говорила о сексе даже со своим психоаналитиком. По возвращении из Европы я решила жить отдельно. Дома как будто взорвалась бомба, «нож распорол» маме сердце, из-за этого, по моей вине, она стала ходить к психологу, хотя до пятого сеанса она не осмеливалась открыть ей настоящую причину.
Психолог однажды позвонила мне домой и попросила приехать к ней. Консультация находилась рядом с церковью, и меня рассмешила мысль, что мама, выйдя с сеанса, идет причащаться и читать молитву, а затем исповедуется священнику, рассказывая то, что она только что говорила аналитику.
У психолога была просторная квартира, похожая на ту, которую я тогда снимала, единственная разница была в том, что, должно быть, она была более светлая, когда поднимали жалюзи. Женщина указала мне на диван. Тогда я впервые увидела диван психоаналитика, но я села на стул, даже не сняв пальто. Она молчала, ожидая, что я заговорю первая. Она меня не знала: я никогда не начинаю разговор, больше того, я всегда отвечаю лишь из вежливости.
– Не рассказывайте своей матери, куда вы ходите, – наконец произнесла она, – не рассказывайте ей о своем путешествии, о том, что вы делали в Европе.
Это, без сомнения, был странный сеанс, но я никогда не была у психолога.
– Я вас не понимаю.
– Да, разговаривайте с ней о чем-нибудь другом. – Она выдержала паузу. – Знаете, в чем проблема вашей матери? Ваша мать…
– Я не хочу этого знать. Я не просила вас о чем-либо мне рассказывать.
Я задержала взгляд на красных пятнах на ее руках и шее для того, чтобы она поняла, что я их увидела.
– Не надо мне говорить о моей матери, – сказала я, – лучше вообще ничего не надо мне говорить. Я пойду. – Я поднялась. – Я вам что-нибудь должна?
– Нет. Ваша мать все оплатила.
Я открыла дверь, вышла и вызвала лифт, но повернулась, чтобы еще раз взглянуть на нее. Тут я поняла, что мне страшно. Страшно от того, что вдруг у нее нет диплома психолога или психоаналитика или что у нее мало практики. Бывает ли у психологов мало практики? «Я должна это сделать, – подумала я, – я бы не пришла, если бы мне это было безразлично». Психолог с извиняющимся выражением лица, во фланелевой юбке ниже колена и блузке с вышивкой. Волосы, как солома, свисают по щекам, казалось, что они отвалятся, если она шевельнется. Эта женщина нуждалась в большей помощи, чем моя мать.
– Говорите, она все оплатила?
– Да. Она хотела, чтобы я вам позвонила. Чтобы я вам все рассказала.
– А почему я должна хотеть это знать… знать то, о чем она мне никогда не говорит?
– Ей нужно вам это рассказать, чтобы вы все знали. Она говорит, что только так может вылечиться.
Что мама мне хотела рассказать? Она наконец вылечилась? Я снова открыла ящик: на коробочках с успокоительным стояло просроченное число – год смерти моего отца, – таблетки были не тронуты. Я захлопнула ящик.
Я отдернула занавеску и высунулась в окно. Улица была узкая, и, если хорошенько присмотреться, я бы могла увидеть маму, скорее, ее голову в руках парикмахера Альдо. Волосы прямые и тяжелые, у меня такие же, своего настоящего цвета. Кроме всего прочего, я унаследовала от мамы что-то хорошее.
Соседки пытались делать такие же прически и подбирать краску для волос: каре пепельного цвета, спереди немного приподнятое. Высота и стиль прически зависели от моды в районе. Мама перестала быть «женой доктора» и стала «вдовой доктора». Папа был адвокатом, но все его называли «доктором». Я тогда была «дочкой доктора», а сейчас я уже никто.
Я вспоминала кабинки, похожие на капсулы, которые превращали женщин в астронавтов, пока им делали маникюр. Альдо не желал снижать цены. Пока я два раза в год ходила стричься за пять песо в какую-нибудь парикмахерскую школу, мама платила тридцать каждую неделю, чтобы почувствовать себя сеньорой.
Может быть, она ходила в парикмахерскую не за этим, а чтобы почувствовать, как пальцы Альдо массируют ей кожу на голове. Сейчас я думала, что это больше похоже на проявление нежности. Мама откидывала голову назад и, когда он начинал промывать ей голову шампунем, выпускала журнал из рук и закрывала глаза. Тридцать песо – это умеренная цена за такие услуги.
– Привет, Викита!
Над верхней губой у мамы виднелись капельки пота, зубы были немного в помаде, и от нее пахло дезодорантом. «Викита» звучало так, будто она обращается к кому-то другому. Вики, Викита. Но меня зовут Виргиния, а не Виктория.
– Ты звонила Августину? У него все хорошо?
– Не накручивай себя.
Она положила сумочку на столик и включила телевизор.
– Как давно я не смотрела новости, – сказала я.
– Викита, ты будто в лесу живешь.
Она включила вентилятор, чтобы развеять запах еды. Свет, лившийся из окна, делал прозрачной ее одежду, а точнее, белую кофточку в фиолетовый горошек, которая выделяла ее живот и грудь. Она купила ее в одном из магазинов района, магазинов, которые обычно носят названия: «Гала», «Лувина», «Петуна». У нее до сих пор были красивые ноги. У меня не такие. Говорил ли ей когда-нибудь отец, что у нее красивые ноги?
В телевизоре парочка молодых ведущих, оба загорелые в солярии (это единственное, что отличало эти новости от тех, что я смотрела в детстве), поворачивали головы вправо и влево, как марионетки. Затем стали показывать какие-то слайды о войне.
Мама спустилась вниз и надела тапки из тюля нежно-голубого цвета с помпонами. Еще она надела повязку на голову, чтобы прическа не испортилась, и две бигуди на макушку, словно девочка, которая выходит из парикмахерской с желанием поиграть в парикмахерскую.
– Для Вики самый сочный кусок мяса, – сказала она Грасиэле, – и не добавляй в салат уксус, ей это не нравится.

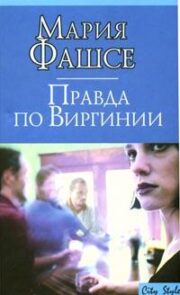
"Правда по Виргинии" отзывы
Отзывы читателей о книге "Правда по Виргинии". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Правда по Виргинии" друзьям в соцсетях.