Он чуть улыбнулся.
– Ты свободна, Мабрука!
– Сиди, сиди! Дай мне умереть с тобой! Что мне свобода без тебя!
– Для тебя еще найдется работа, бедная моя Мабрука! Ты мечешься между Западом и Востоком. Пляши, малютка, и люби. Я давно простил тебе… Ты ведь вольная пташка, дочь вольной птахи… и в клетке тебе было тесно… – Голос изменил ему, он снова начал бредить.
– Не выполняла я разве семь лет твою волю! – крикнула она, почти грубо схватив его за плечо.
Он встрепенулся.
– Дочь моя! Это зачтется… Побывай в Мекке… Передай поклон Магомету Саад-бею, расскажи ему, как все произошло. Нагнись, любимая, голос мой слабеет, а надо еще передать… – Он зашептал ей на ухо.
Бэда стоял как каменный, глядя на них. Риккардо отошел в дальний угол.
Спустя четверть часа Си-Измаил опять потерял сознание. Он умер на закате, в ту самую минуту, когда муэдзин соседней мечети, невзирая на то, что делалось внизу, не думая о мире и войне, о жизни и смерти, с высоты минарета призывал на молитву жителей города, на улицах которого валялись трупы и раненые.
Мабрука с пронзительным воплем упала на тело.
ГЛАВА X
Весь мир облетела весть о кровавом восстании в Керуане и его неудачном конце. Европейские газеты поместили длинные сообщения, описывавшие взрыв французских казарм, деморализовавший вначале гарнизон, и недолговременный триумф восставших, с которыми затем разделались быстро и строго. Сфакс был приведен к повиновению сравнительно кроткими мерами: расправа в Керуане должна была служить назиданием. Расточая деньги и проливая кровь в Марокко, Франция считала необходимым управлять железной рукой в других местах.
Если в сфакском деле пресса почти не касалась его политической стороны, то керуанское она сильно раздувала именно с этой точки зрения, приписывая подготовку восстания панисламистам Северной Африки.
Помимо огромной потери людей и прочего, в Керуане имел место беспримерный скандал: пострадали три туриста – и это в то самое время, как Тунис рекламировал себя как зимний курорт, ничем не уступавший заезженному Алжиру! Можно ли так отпугивать золотых гусей!
Сообщалось, что мужчины, Мур и Ван Дип, были перевезены «в тяжелом состоянии» в госпиталь в Сус, но сейчас находятся «на пути к выздоровлению». Миссис Мур, интервьюированная сотрудником «Нью-Йоркского Геральда», подробно рассказала, как, после страшной свалки в мечети, она, в обморочном состоянии, и молодая леди-итальянка были доставлены в арабский дом – «никакого уюта, только великолепные ковры», как их поручили заботам трех туземных леди и женской прислуги. Одна из леди была выжившей из ума старухой, говорившей по-английски с ирландским акцентом, как говорили в сороковых годах! Наверное, ренегатка! Все толковала о «своем сыне». Кормили их странными, чересчур сладкими и чересчур жирными блюдами, и спали они вдвоем в огромной кровати с позолоченным полумесяцем наверху. Молодые женщины были, видимо, невестками старухи – робкие и глупенькие, они не говорили по-французски. Миссис Мур признавалась, что она не помнила себя от страха; будучи уверена, что им суждено пополнить туземный гарем, она решила лучше застрелиться, чем покориться такой участи. Кстати, у итальянской леди был револьвер.
В субботу ночью их разбудили ужасные вопли и стоны. Миссис Мур решила, что конец близок. Но в воскресенье их укутали покрывалами, и большой черный человек проводил их несколькими улицами к карете с пунцовыми занавесками. Выяснилось, что их везут во французский квартал. Миссис Мур говорила, что она плакала от радости. Вскоре карета остановилась, и их с восторгом встретила м-м Перье, после пожара отеля поселившаяся с женой одного инженера. Оттуда весьма приятный маркиз-итальянец, фамилии его миссис Мур не помнила, но слышала, будто он известный антикварий, повез юную леди-итальянку в Тунис. Говорят, она выходит за него замуж.
Под покровом ночи Риккардо, в сопровождении Бэды, кое-как дотащился по крышам до дома Мабруки. Он дрожал в ознобе, хотя и камни еще не успели остыть после знойного дня. К полуночи он уже лежал в жару и не сознавал, что делается вокруг. Много дней провел он в полузабытьи, смутно сознавая, что кто-то ходит за ним, и полусознательно вглядываясь в мучительный узор чугунной кровати. По временам над ним склонялось бледное лицо с пылающими крестами на обеих щеках, и рука с крашеными ногтями, прохладная и пахучая, ложилась на его пылавшую голову.
Иногда он бредил; ему казалось, что тут же рядом убивают Аннунциату, а он так и не успел сказать ей, что любит ее. Или ему казалось, что он, вместе с Аннунциатой, ярким солнечным днем рвет полевые цветы на развалинах Карфагена: шуршит ячмень, издали доносится ропот моря – иссиня-лиловое, оно раскинулось до самого горизонта, до самой Сицилии. Сайд поет тягучую арабскую песнь. Аннунциата говорит, что это песнь любви, и прячется в ячмене…
Наконец, он уснул продолжительным, освежающим, спокойным сном, а проснувшись и обведя взглядом неряшливую комнату, обставленную с полуевропейской-полувосточной роскошью, впервые осознал, где он находится. На диване лежала усталая Мабрука, подле нее на полу сидела на корточках девушка-мулатка.
Мабрука вскочила на ноги и, мягко ступая, подошла к его кровати; ее печальные глаза лучились:
– Лучше тебе, мой маленький?
Он слабо улыбнулся и попытался заговорить. Она поняла невысказанный вопрос.
– Они знают, что вам ничто не угрожает…
Как многие женщины Востока, Мабрука была по натуре сестрой милосердия. Она двигалась бесшумно, как кошка, неусыпно следила за ним, была настойчива, когда требовалось. Если время тянулось чересчур медленно, она коротала его, рассказывая Риккардо арабские сказки, которые переводила на свой своеобразный французский язык.
Однажды, когда у него почему-то возобновилась лихорадка и душная ночь казалась бесконечной, она низким, ровным голосом, глядя прямо перед собой в темноту и опустив голову на его подушку, рассказала ему историю совсем в другом роде… историю об одном молодом арабе знатного происхождения, который с далекого юга привез в Тунис, где он жил, как живут руми, малютку-дочь одной танцовщицы и забавлялся ею. Он позволял ей знакомиться с красивыми леди и их мужьями, как будто она сама была француженка. А потом, когда, птичка оперилась, снова увез ее на юг и по-старинному запер на женской половине. Птичка томилась в заточении и в один прекрасный день бежала с весельчаком-французом, ехавшим на Север.
Но пленница жаждала свободы, а француз-офицер вовсе не намерен был дать ей посмотреть свет. Он хотел надеть на нее кандалы любви, она выбивалась, и… офицер внезапно умер.
Когда она дошла до этого места, Риккардо вдруг понял, чью историю она рассказывает.
– Его убил ее муж?
Мабрука качнула головой и прижалась к нему.
– Нет, – шепнула она. – Убила его она сама, и, не имея денег, украла его ценные вещи. Она чувствовала себя одинокой среди чужих, тосковала по своим, от которых ушла… Так, милый, бывает всегда: прирученная пташка гибнет, если ее выпустить из клетки, поэтому не следует открывать ей дверцы.
Помолчав, она продолжала:
– Вдвоем со старухой-служанкой она вернулась обратно в пустыню к шейху, своему мужу. Когда она предстала пред ним, он и не посмотрел на нее. Но он видел ее, да, видел и немного погодя велел принести раскаленное железо и выжечь проклятый знак на обеих ее щеках. Ей смерть была бы милее. Она долго болела, а потом он отправил ее плясать, и она плясала в одном, другом месте, всюду, даже в дальних странах. Много было у нее возлюбленных в те времена, потому что она была не такая, как другие, и шрамы на щеках сообщали ей обаяние тайны, а араб любит все таинственное. Потом человек, который был ее мужем, стал богат и могуществен, так как был мудр и любил свой народ, как другие любят любовниц. И женщина, которая постоянно грустила, потому что любила его как никого другого, пришла однажды ночью к нему, зная, что ей грозит смерть. Но он принял ее ласково и, зная, что она всюду бывает, со многими встречается, велел ей сообщать ему сведения о тех, кто интересовал его. И с этого дня ее глаза и ее уши служили ему. Одного он требовал от нее – чтобы ни один мужчина, хотя бы он обладал ее телом, не видел ее лица, и она поклялась…
Голос ее пресекся рыданиями.
– Игра была опасная, милый. Он часто хвалил ее. Иногда она ненавидела его, иногда думала, что хорошо бы убить его, но похвала его всегда была сладка ей… Она получала деньги, много денег. Сознание, что она богата, радовало ее порой, а порой она завидовала оборванной бедуинке с малюткой на спине. Аллах! К чему вспоминать!..
Риккардо не находил слов. Она вдруг поднялась, нежно рассмеялась и, напоив его настоем из горьких трав, ушла.
Вскоре после этого она не показывалась целый день. Время тянулось для него бесконечно долго. Ему хотелось чувствовать на лбу у себя ее прохладную руку, слушать ее сказки, заглядывать в ее мрачные глаза. Девушка-мулатка накормила его. Всю следующую ночь он почти не спал. Он сердился на Мабруку за то, что она бросила его, ни слова не говоря.
Утром он проснулся поздно и тотчас услышал голоса, шорох платья, звон запястий. Открыв глаза, он увидел, что она стоит подле кровати с лукавой улыбкой на губах – воплощенная загадка.
– Это ты! Ты вернулась? Где ты была так долго?
– Я привезла тебе подарок, дитя мое.
– Подарок? – удивленно переспросил он.
Она повернулась на каблуках и вышла. За дверью послышался шепот. Он нетерпеливо закрыл глаза. Мабрука отсутствовала двадцать четыре часа, а вернувшись, обращается с ним, как… Что это – сон? Бред снова? Или в самом деле. Аннунциата сквозь слезы улыбается ему, робко и счастливо улыбается?..
– Моя Аннунциата! – в порыве огромной радости крикнул он.
Она с нежностью женщины обняла его, и свежие губы прильнули к его губам.
Странную она рассказала ему историю. В день ее исчезновения утром к ней пришел араб, говоривший по-французски, и сказал, что ее сестра и кузен в мечети и прислали его за ней. Она пошла, ничего не подозревая, и попала в ловушку. Ее привели в дом, где не было никого, кроме глухой старухи. Все мольбы ее были напрасны. Вечером ее закатали в шелк, снесли вниз, уложили в автомобиль и увезли. Трудно сказать, сколько времени продолжалось путешествие, сутки, должно быть. Было уже темно, когда доехали до места назначения и ее размотали. Она очутилась в большой арабской загородной вилле. Обстановка была почти европейская, очень роскошная. Женщин много. Одна из них была очень ласкова с Аннунциатой и прекрасно говорила по-французски. Все называли ее «Принцесса». Она была турчанка, чудовищно толстая; курила без конца и других женщин то баловала, то журила, смотря по настроению. Однажды приехал мужчина; хотя Аннунциату увели, но она успела разглядеть, что он коротенький, белокурый, с красной феской на голове. Старуха называла его «ваша светлость».
– А как тебя выпустили? – Посадили в закрытую карету и везли часа два.
Расстояние от Туниса примерно такое, как от Эль-Марсы.
– Эль-Марсы? Там, в одном из дворцов бея, живет его кузина.
– О, там у многих членов семьи бея есть дворцы. Но я не уверена…
– Как же ты узнала, что я здесь?
– Сальваторе получил письмо на пресмешном французском языке. В нем говорилось, что ты жив. А вчера приехала Мабрука и предложила мне ехать с ней. Сначала я не решалась, но она показала мне твой платок. Да я и знала ее в лицо.
– Знала в лицо?
– Да, я видела ее на соседней террасе, помнишь, я говорила об арабской леди, которой я бросила розу? Ты не удивляйся, Риккардо, но еще недавно я, глупенькая, думала, что ты тоже видел ее и влюбился. Мне пришло это в голову, потому что одной ночью я видала, как кто-то переходил с крыши на крышу. Мне не спалось, и я вышла на террасу. Теперь, конечно, я знаю, что это был не ты.
– Да, это был не я.
Она поцеловала его.
– Теперь этот дом пустует. Джованни – ах, я и забыла сказать, что он хочет жениться на Джоконде, – думает снять его, переделать и поселиться в нем с Джокондой, чтобы быть поближе к нам. Сальваторе наводил справки и узнал, что там жил человек по имени Магомет Саад-бей, родственник бея, он исчез, потому что замешан в каких-то политических делах.
Аннунциата в тот же вечер, в обществе м-м Перье, вернулась в Тунис.
Несколько дней спустя Риккардо поднялся с постели, и выздоровление его пошло быстрыми шагами. Настал день, когда он должен был отправиться в Тунис. Он оделся, но Мабрука, которая обыкновенно, пока он завтракал кружкой козьего молока, усаживалась на полу подле него и болтала, потягивая из крошечной чашки кофе и грызя неудобоваримые арабские сладости, – Мабрука не показывалась. Он обратился к девушке-мулатке. Та пожала плечами и неопределенно махнула рукой.

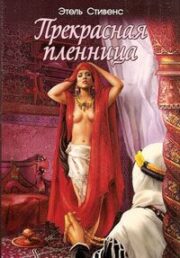
"Прекрасная пленница" отзывы
Отзывы читателей о книге "Прекрасная пленница". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Прекрасная пленница" друзьям в соцсетях.