Этель Стивенс
Прекрасная пленница
Часть I
ТАЙНА ДОМА
ГЛАВА I
Экипаж зарылся в песок и остановился. Широко раскинулась пустыня. Слепила глаза сверкающая белизна песков. Однообразие их лишь местами нарушалось серыми кустиками «циты», травы пустыни, да одинокими тамарисковыми деревьями, старыми и запыленными. Справа вытянулся обнаженный хребет Зибана; резкие очертания гор таяли и расплывались в прозрачном голубоватом воздухе знойного полудня. Слева, на горизонте, в золотой дымке вырисовывался оазис и его финиковые пальмы. За ним – другой, как облако неуловимый. Тишина и зной, зной и тишина.
В экипаже сидели четверо: два француза, один из них – офицер в форме африканского стрелка, затем араб – кучер, по самые глаза закутанный в мягкую кисею, и другой араб – в кокетливом костюме тунисского гранда: широкие белые шаровары, ярко-розовый кушак и синяя с серебряным шитьем куртка. Когда экипаж остановился, он обернулся с козел.
– Господа, придется выйти: песок здесь очень глубок.
– Проклятый позвоночник! – проворчал штатский. – Верхом мы давно были бы у цели.
Это был пожилой человек с лицом обветренным и загорелым, с целой сетью мелких морщинок у глаз. Его спутник, офицер лет около тридцати, был хорошо сложен, подвижен. Голубые, с густыми темными ресницами, беспокойные и смелые глаза сразу располагали в его пользу.
Он помог своему спутнику выйти из экипажа.
– Дальше дорога лучше, – успокаивающе заметил араб, соскакивая с козел.
– Было настоящим безумием пускаться в экипаже по этой верблюжьей тропе, – продолжал ворчать штатский, – клянусь богом, Коломбель, я рискнул бы ехать верхом, знай я, что нас ожидает. Позвоночник мой вряд ли подвергся бы такому сильному испытанию, какому подвергается мое терпенье.
– Си-Измаил каждую неделю проезжает этой дорогой в ландо, – заявил проводник.
– Прекрасно! – с благоговением отозвался кучер. – Все пути легки для марабу, друга Аллаха.
Граф Кассили улыбнулся.
– Ваш друг здесь в почете, как видно. На него смотрят почти как на святого. Я слыхал об этом от своих рабочих.
Коломбель рассмеялся.
– Я не замечал в нем ничего особенного, когда встречался с ним. Он много проигрывал мне в карты.
– Алжир – это цивилизация. Вы не знаете юга, как знаю его я. Вы убедитесь, вероятно, что шейх Силгасский – совсем другой человек, чем тот Си-Измаил, с которым вы играли в баккара в резиденции. Впрочем, вы и в Париже, кажется, встречались с ним?
– Да. Бог весть почему, он был гвоздем одного сезона. Имел большой успех у женщин, начало чему положила его кузина, графиня Хэнней. Она не скрывала, что влюблена в него. Говорят, его матерью была ирландка, дочь пэра; она приехала сюда, оплакивая смерть жениха, встретила в Константине старого шейха и бежала с ним. Любопытное сочетание – арабский шейх и сумасшедшая ирландка! В Алжире Си-Измаил был принят всюду. С арабами, впрочем, он тесных отношений не поддерживал.
– Странно. В Алжире должны ведь были помнить, что он сын бен-Алуи.
– В Алжире помнили, видимо, лишь то, что он богат и умеет веселиться. Он был в дружеских отношениях с мужем моей сестры, Жаком де Россиньоль. Тот, как вы знаете, нумизмат, а Си-Измаил обладает одной из лучших в мире коллекций финикийских и греческих монет. Я был как-то у него вместе с сестрой и ее мужем. Нас принимала единственная представительница женской половины его дома, девочка лет двенадцати. Судя по цвету ее кожи, по краскам вообще, я сказал бы, что в жилах ее течет черкесская кровь. Обещала вырасти красавицей. Одетая в парижское платье, она презабавно разыгрывала роль хозяйки дома и болтала на языке, отдаленно напоминавшем французский. Сестра буквально влюбилась в нее, и мы после того часто видали малютку. Как это ни странно, но Си-Измаил всюду пускал ее в сопровождении гувернантки-француженки, которую приставил к ней. Моя сестра – мы оба – привязались к девочке, хотя по временам она превращалась в настоящего бесенка. У меня и сейчас сохранились на руке следы ее зубов. Алжирские дамы баловали ее, некоторые потому, что были неравнодушны к Си-Измаилу, как из-за его наружности, так и из-за славы сердцееда, которую он приобрел в Париже.
– А девочка? Кто она?
– Не знаю. Разное говорили. Распространеннее всего была версия, будто он подобрал ее в Триполи, в каком-то кафе, и возымел желание дать ей образование… Прихоть, должно быть.
– Где же она теперь? – спросил Кассили, помолчав.
– Кто знает? Я уехал в Париж и оттуда послал ей через мою сестру большую коробку конфет. Сестра ответила, что девочка отправилась куда-то погостить, и Си-Измаил обещал переслать ей конфеты. Но с этого дня сестра никогда больше не видала ее, ничего больше о ней не слыхала, хотя Си-Измаил лишь месяцев шесть спустя покинул Алжир, чтобы переселиться сюда… Я часто задавался вопросом, что сделал с ней Си-Измаил? Он настолько европеизировался, что трудно допустить, чтобы…
– Чего только не приходится допускать здесь!..
– Интересно бы знать…
– Месье, – раздался голос драгомана Тайеба, – дорога уже лучше, не угодно ли вам сесть? Мы скоро будем в Силге.
– Что значит «скоро» в переводе на часы, минуты и секунды?
– Часа через два, сиди!
Было около двух часов, когда запыленный экипаж въехал в священный разиз Силгу, куда лет двести тому назад аскет-магометанин сиди бен-Азус принес из Египта новое учение, новый культ, который приобрел столько же последователей, как учение сиди Окба за несколько веков до того. Недруги называли сиди бен-Азуса еретиком, но он проповедовал мало, а жил в бедности и воздержании, творя дела милосердия и любви, которые заслужили бы одобрения святого Назарянина, чтимого неверными. Сиди бен-Азус беседовал с птицами, с рыбами, с гадами; любил маленьких детей, врачевал больных. И прежде чем отпустить в мир своих учеников, каждого из них наделял какой-нибудь особой способностью.
Силга – в сущности, всего только деревушка, с хижинами, сложенными из необожженных кирпичей и окруженными пальмовыми садами. Своим относительным благосостоянием она обязана тому, что раз в неделю там бывает большой бедуинский базар. Издалека сходятся к этому дню караваны. Тут можно купить самых лучших верблюдов, а иногда и хороших арабских борзых, не говоря уже об ослах, козах, лошадях. Тут же в палатке-кофейне томимых жаждой продавцов и покупателей ждет свежий кофе. Дешевый ситец, шелк, драгоценные украшения, благовония – все продается в этом городке из палаток, каждый товар в определенном месте.
Но в день, когда в Силгу въехали де Коломбель и Кассили, базара не было и улицы пустовали. Оба араба исчезли – занялись лошадьми, а де Коломбель и его друг зашли в туземную кофейню на главной улице.
Оба они устали и наслаждались прохладой и тишиной – земляные стены кофейни защищали от солнца и зноя. В кофейне не было никого, кроме группы арабов, которые, сидя на чистых циновках на возвышении, также сбитом из глины, играли в домино, молчаливые, как призраки. Они мельком, без всякого любопытства взглянули на чужеземцев. Хозяин поспешил подать кофе – де Коломбель и Кассили уселись на край возвышения, – нелепые, неуместные фигуры подле одетых в белое игроков в домино. Стены кофейни неведомый туземный художник, пренебрегая законами Корана, расписал черной и желтой краской, причем изобразил какую-то танцовщицу, солдата, турецкого султана и змею. В открытую дверь свет врывался яркими снопами.
Вдруг свет заслонила фигура остановившегося в дверях и как бы окруженного сияньем, молодого араба в белоснежной гандуре. Один из игроков окликнул его. Он вошел и, вытащив из кармана небольшую флейту, заиграл тягучую минорную мелодию пустыни. Потом, не переставая играть, подошел ближе и остановился перед чужеземцами, внимательно разглядывая их.
Кассили невозмутимо потягивал свой кофе, но де Коломбель почувствовал легкое раздражение.
– Мир вам, – сказал он по-арабски.
Мальчик отвел флейту от губ.
– Вам тоже, – ответил он.
Де Коломбель велел подать третью чашку кофе, и музыкант уселся подле иностранцев, не сводя с них меланхолически-критикующего взгляда.
Потом нагнулся вперед.
– Вы приехали повидать марабу?
Де Коломбель кивнул головой.
– Что это вы играли сейчас? – спросил Кассили. – Я уже слыхал эту мелодию.
– Это песня слез, сиди. Вот послушайте… эти две ноты… они плачут… женщина исчезла, и возлюбленный ищет ее.
Де Коломбель улыбнулся, покручивая усы. Он привык к образным выражениям арабов.
– Песня слез… – повторил он.
– Да, сиди, песня слез.
Разговор был прерван появлением Тайеба. Мальчик допил кофе, плотнее запахнул свой бурнус и, выбежав из кофейни, тотчас исчез из виду.
Французы поднялись и, вслед за Тайебом, вышли на залитую солнцем улицу. Пересекли базарную площадь и вскоре дошли до следующей площади, в одном углу которой стояла мечеть. Несколько верблюдов дремало подле нее; над ними тучами носились мухи. Тайеб направился к низким сводчатым воротам, над которыми поднимались перистые верхушки финиковых пальм. Несколько человек, арабов, сидели или полулежали, опершись о стену, а на циновке, постланной у самого входа, трое или четверо мальчуганов, в одеждах из тонкого белого полотна, вслух читали старинную книгу.
Из-под ворот узкая лестница вела на верхний этаж. Они вошли в скромно обставленную приемную с тремя узкими расписными окнами. В комнате было человек семь-восемь арабов. Двое из них, судя по бронзовому цвету кожи, были из отдаленной части Сахары. В углу комнаты сидел, смеясь и болтая вполголоса, тот самый юноша, которого де Коломбель угощал в кофейне. Де Коломбель заметил, что он держал в руке белую розу, которую часто томным движением подносил к лицу.
В первую минуту им показалось, что Си-Измаила нет в комнате. Но вот навстречу им поднялся высокий человек, перед тем сидевший, скрестивши ноги, на вышитой подушке.
Де Коломбель был поражен – он привык видеть Си-Измаила в европейском платье.
– Вы простите, что я принимаю вас здесь, – сказал Си-Измаил, по-европейски подавая ему руку. – Это час аудиенций, и я не хотел заставлять вас ждать.
Де Коломбель представил Кассили как заведующего рудниками в округе Эль-Кантара.
Кассили с любопытством присматривался к Си-Измаилу. Он слыхал рассказы о том, как умирающий бен-Алуи спешно вызвал сына в глиняную деревушку. Что шептал старый аскет сыну – это осталось для всех тайной, но с этой минуты Си-Измаила не видали больше ни в Алжире, ни в Париже.
В лице Си-Измаила прежде всего привлекали внимание его глаза – чистого и холодного голубого цвета. Казалось, вся магнетическая сила, которая чувствовалась в этом человеке, сосредоточилась в узких зрачках.
Мальчик-флейтист проводил де Коломбеля и Кассили в отведенное им помещение. Хотя Си-Измаил выразил сожаление, что не может предоставить своим гостям европейского комфорта, жаловаться им было не на что. Две смежные комнаты были обставлены удобно, а толстые стены умеряли жару. В узкие, как в приемной, окна доносился снизу гул голосов, жужжание вроде того, какое бывает в классе.
Выглянув в окно, де Коломбель увидал внутренний, с выбеленными известью стенами дворик, под аркадами которого разместились, поджавши ноги, молодые люди, громко и монотонно декламировавшие. Это была «зауйя» – школа, в которой окрестная молодежь за счет Си-Измаила обучалась теологии и философии. Гул голосов приятен был слуху, как жужжание пчел над пряно пахнущими цветами в знойный летний день. Оно клонило ко сну.
За завтраком, превосходно приготовленным и поданным, Си-Измаил расспрашивал о своих парижских и алжирских знакомых; когда он справился о м-м де Россиньоль, де Коломбель поспешил воспользоваться случаем.
– Она провела зиму в Алжире, а сейчас вернулась в Париж. Кстати, она просила меня передать самый нежный привет вашей маленькой питомице Мабруке. Как ей живется?
– Она здорова, благодарю вас.
Си-Измаил взялся за графин и наполнил стакан Кассили.
– Здесь она?
– Она уехала – уехала погостить. Я передам ей привет вашей сестры… Итак, вы говорите, граф, что, по вашим предположениям, в окрестностях Мак-Магона должна быть железная руда?
Де Коломбель не настаивал – слишком круто был переведен разговор.
Он спрашивал себя, что же сталось с свободолюбивым ребенком, который должен был за это время превратиться в женщину, с девочкой, красота которой тогда уже волновала его воображение? Неужели Си-Измаил, под влиянием внезапно проснувшегося фанатизма или унаследованной от предков ревности, заточил эту певчую птичку, как только она расправила крылышки? Мабрука была не только красива, у нее был живой ум, была смелость.

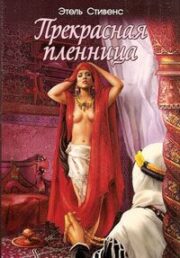
"Прекрасная пленница" отзывы
Отзывы читателей о книге "Прекрасная пленница". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Прекрасная пленница" друзьям в соцсетях.