Мабрука стояла посреди комнаты. В колеблющемся свете свечей ее желтые и красные одежды горели как лепестки роз или как огненно-красные жилки в темном опале. У него перехватило горло, такая она была особенная, – совсем живое пламя. Он сразу заметил большие серьги у нее в ушах и амулеты, покрытые незнакомыми письменами, на шее.
– Мир вам, – сказала она на своем родном языке.
Он подошел и поцеловал ее.
– Как ты хороша, боже! Как ты хороша, маленькая дикарка!
Она, как и поутру, покорно сносила его объятия, не отвечая на них, но и не отталкивая его.
– Правда? Я красивей тех женщин, что были на балу?
Сравнение было настолько неуместное, что он рассмеялся, опускаясь на приготовленную для него низенькую скамеечку. Она села на пол, подле свечей.
– А мои драгоценности? – спросила она.
– Я принес.
Она внимательно, со странным выражением взглянула на него.
– Поедим сначала.
Неджма внесла кофе на медном подносе и, поставив его перед своей госпожой, села у стены.
Де Коломбель не мог ни есть, ни пить. Неджма беззубыми деснами грызла пирожное. Мабрука отломила кусочек и тотчас отложила его в сторону.
– Нет, я хочу сначала посмотреть, что ты принес мне.
Он молча вытащил из кармана сверток, который захватил, уходя из отеля. Он принес ей золотую цепочку, бирюзовый, оправленный в изумруды подвесок туземной работы, который он купил для нее днем, и браслет французского изделия. Она брала вещи одну за другой, взвешивала их на руке и подносила к свету, как бы оценивая. Потом заставила его назвать цену каждой из вещей. Неджма молчала, но блестевшими из-под морщинистых век глазами следила за каждым движением своей госпожи. – Довольна ты? – спросил де Коломбель.
– Довольна, да. Но я надеялась… – Она указала на бриллиантовые запонки в его манишке.
– Надеялась получить бриллианты? – Его забавляла ее алчность. – Ничего не поделаешь, я не миллионер, а этих отдать тебе не мог бы: они подарок моей тетки и стоят очень дорого.
Он вынул одну из запонок, и Мабрука двумя пальцами поднесла ее к свету.
– Сверкает! – воскликнула она. – Как лезвия маленьких кинжалов. Кажется, будто что-то живое заключено в нем и старается выбраться. Вот почему мне нравится.
Она вернула ему запонку и в то же время мягким движением прижалась к нему. Потеряв самообладание, он обнял ее – запонка упала на пол. С неожиданной для него покорностью отдавалась Мабрука поцелуям, которыми он осыпал ее рот, шею, и де Коломбель не замечал ненависти, таившейся в сузившихся глазах.
– Пусти, – шепнула она, как только он дал ей возможность говорить, – камешек упал…
– Неважно…
– Нет, давай поищем.
Она начала шарить руками между тарелками со сластями и подсвечниками.
Он опустился на колени подле нее.
– Не закатился ли под ковер?
Она поднялась на ноги.
– Я подержу свечу.
Он продолжал искать между складками. Не хотелось терять ценную вещь. Неджма не пыталась помочь им. Она сидела у противоположной стены. И вдруг рассмеялась коротким истерическим смешком.
И в это самое мгновенье де Коломбель почувствовал толчок и жгучую боль… Он пошатнулся.
– Боже! Ты заколола…
Он не договорил. Стальной клинок вонзился снова, на этот раз в горло. Де Коломбель упал навзничь. Струя крови хлынула у него изо рта.
Неджма опять рассмеялась. Она дрожала всем телом, но не двигалась с места.
– Помоги мне, – сказала Мабрука низким голосом. – Бриллианты пригодятся нам.
Но Неджма не шевельнулась.
Тогда Мабрука нагнулась и, бледная, но с твердо сжатыми губами, вынула две запонки из окровавленной манишки убитого. Третья была у нее в руке. Потом она собрала полученные от него подарки, завязала их в узелок, который спрятала на груди, и вынула из ящика расшатанного итальянского бюро два темных хаика.
– Идем! Нам надо спешить! Живо!
Она подняла старуху на ноги и накинула на нее хаик. Оделась сама.
– Теперь ступай вперед и открой дверь. Я запру эту за нами.
Старуха повиновалась, дрожа с головы до ног.
Мабрука на мгновенье остановилась на пороге и оглянулась. Одна из свечей упала. Пламя уже лизало волосы убитого. Мабрука вернулась и, нагнувшись, затушила огонь. Постояла немного, потом плюнула в лицо убитому, как плюнула утром на то место, где он перед тем стоял, и, низко надвинув на самые глаза свой хаик, неслышно притворила за собой дверь, заперла ее на ключ и скользнула вниз по темной лестнице.
Часть II
ТАЙНА ГОРОДА
(Прошло девятнадцать лет)
ГЛАВА I
– Который час? – спросили звонким молодым голосом с койки каюты второго класса парохода «Аврора», совершавшего рейсы между Сицилией и Северной Африкой.
Потом, сообразив, что он уже расстался со страной мягких согласных, заспанный пассажир повторил свой вопрос по-французски.
– Шесть часов, месье, – ответил проходивший мимо стюард.
– Земля уже видна?
– Да, месье.
Молодой сицилиец соскочил с койки. Четверть часа спустя он уже стоял на палубе, устремив взгляд на горизонт. Море было того теплого, лиловато-синего оттенка, который характерен для южных морей; Риккардо Бастиньяни тысячи раз видал его таким в Палермо в солнечные дни; знал и другие его оттенки – васильковый, бирюзовый, багряный при заходе солнца, в бурю – темно-пурпуровый, с зелеными пятнами цвета изумруда или хризопраза. И солнце, рассыпавшее по гребням волн тысячи сверкающих золотых, было для него такой же родной стихией, как вода – для лотоса, как воздух – для жаворонка. И все-таки в этом солнце и в этом море было что-то новое.
Он остро вглядывался в горизонт, где пятнышком, не больше крыла бабочки, темнела земля. С этим пятнышком связана вся его будущая жизнь. Он смотрел, не отрываясь.
Рядом стоял, облокотившись о борт, худощавый мужчина, внимательно рассматривавший юношу. На нем был прекрасного покроя серый костюм и мягкая широкополая шляпа, отбрасывавшая тень на лицо.
– Вы в первый раз едете в Тунис? – спросил он по-итальянски.
Бастиньяни кивнул головой. Он обратил внимание на глаза незнакомца, – светло-голубые, длинного разреза глаза, – заинтересовался, к какой национальности отнести его.
– А вы, месье?
– Я живу в Тунисе. Но много времени провожу в разъездах.
– В разъездах, – задумчиво повторил Бастиньяни. – А я до сих пор никогда не выезжал из Сицилии, хотя мне давно хотелось побывать в Тунисе и Алжире. Возможно, что тут сказывается атавизм: во мне есть доля мавританской крови.
Оба молча смотрели на приближавшийся берег.
Вот пароход поравнялся с темными холмами Карфагена, миновал поросший тамарисковыми деревьями мыс, на котором стоит маяк, и вошел в узкий канал с водой маслянисто-зеленого цвета. В конце канала виден был Тунис, весь белый на фоне гор и безоблачного неба, как гряда летних тучек.
К пароходу подошла лодка с четырьмя смуглолицыми, в красных фесках, гребцами, и лоцман, жилистый маленький француз, взобрался на палубу.
– Скоро ли мы будем в Тунисе? – спросил Бастиньяни своего спутника.
– Не раньше, как через полчаса, пожалуй. Вы долго думаете пробыть там?
Бастиньяни махнул рукой.
– Почем знать? Всю жизнь, быть может.
– Вот как! У вас есть там родственники?
– Дядя и его семья. Я еду помогать дяде вести дело; он болеет. Я изучал право в Джирдженти, – добавил он и светло рассмеялся. – Но в Сицилии на каждого тяжущегося приходится пять адвокатов. Неохота быть шестым.
– Мудро с вашей стороны, – одобрил незнакомец, всматриваясь в смуглое молодое лицо с красивым ртом и тонкими чертами. – Возможно, что я знаю вашего дядю.
– Его фамилия Скарфи.
– Торговый агент. Я, кажется, встречался с ним. Но вы на него не похожи.
– Его жена была родной сестрой моего отца, урожденной Бастиньяни. – Он тронул перстень у себя на пальце.
– Я видел этот герб в одной из часовен собора в Джирдженти!
– Ее соорудил мой предок. Лучше бы он употребил деньги на что-нибудь другое.
– Бастиньяни обеднели?
– Живут кое-как. Но считают ниже своего достоинства работать. Я же работать рад, а потому и еду к дяде. Да и немыслимо провести всю жизнь в Палермо или Джирдженти.
– Положим… вы могли бы жениться на богатой?
– Благодарю покорно! К тому же в Сицилии богатых невест нет. Впрочем, я вообще не имею ни малейшего желания жениться… А что, арабские женщины красивы? Я говорю не о танцовщицах, – те, я слыхал, ужасны, – а о женщинах, которые носят покрывало.
– Советую вам довольствоваться тем, что вы найдете в европейском квартале. Выбор там у вас будет большой. А женщин под покрывалом, – он взглядом как бы оценил красоту этого сына солнца, – не касайтесь, если вам дорога жизнь.
В голосе послышалась резкая нотка, изумившая Риккардо.
Незнакомец заметил это и переменил тон.
– Что касается танцовщиц, сведения у вас правильные, – шутливо заговорил он. – Впрочем, есть одна, которую стоит посмотреть. Европейцам это редко удается. Но моя карточка откроет вам доступ. Лучше, если вы пойдете один. Никакой опасности вам там не угрожает. Я напишу адрес на своей карточке.
Он вынул из бумажника визитную карточку и, написав на ней несколько слов, протянул ее Риккардо. Тот прочел: с одной стороны – «Али Хабиб, 3, Нагорная улица», с другой – «Шарль Конраден, 3, улица Каира».
– Вы должны побывать у меня. – Конраден ласково взглянул на юношу. – Немного позже у меня, быть может, найдется для вас дело.
Бастиньяни весело улыбнулся.
Берега канала скользили мимо, как проползающие змеи. Тунис приближался и, как все восточные города, утрачивал часть своей красоты по мере того, как, с сокращением расстояния, соскальзывало с него покрывало тайны. Но белизну свою сохранял незапятнанной – белые террасы и белые дома, казалось, возникали из самой синевы небесной. Местами вдруг вырастал минарет.
Пароход поравнялся, наконец, с набережной, и на борт вскарабкались носильщики всех мастей, в самых разнообразных и несложных одеяниях, но с обязательной феской на голове. Они атаковали пассажиров первого класса.
– До свидания, – сказал Конраден, протягивая Риккардо руку, – надеюсь, вы скоро выберете время, чтобы побывать у меня.
Бастиньяни смотрел ему вслед. Он не умел определить – влекло ли его к новому знакомому или отталкивало от него; но встретиться с ним еще раз, во всяком случае, хотелось.
Сходни не были еще спущены, и в надежде увидать кого-нибудь из своих родственников он с палубы стал рассматривать кишевшую на набережной толпу. Никого из семьи дяди он до сих пор не встречал. Кузену Сальваторе девятнадцать лет, они с ним ровесники, затем идет Джоконда, семнадцати лет, и Аннунциата, шестнадцати. Встретит его, вероятно, дядя.
Взгляд его случайно упал на верхнюю палубу. Там стоял его голубоглазый спутник, месье Конраден, и с ним высокий араб, очевидно, явившийся с берега. Араб был одет очень нарядно: бледно-голубой плащ, белый вышитый кушак и тюрбан из мягкого белого шелка. Риккардо бросилось в глаза, с каким достоинством держался этот человек. Но и Конраден от сравнения не проигрывал.
В нем были и властность, и какое-то особое благородство.
Сходни спустили. Риккардо вяло отстранил отельных комиссионеров, тучей хлынувших на пароход, и укрылся в тень. Солнце пекло немилосердно, хотя не было еще и восьми часов. Из своего укромного уголка он продолжал разглядывать толпу на набережной. К сходням проталкивался небольшого роста мужчина с исхудалым лицом, в панаме не первой свежести. Инстинкт подсказал Риккардо, что это его дядя Сицио. Мгновение спустя они пожимали друг другу руки и обнимались.
– Добро пожаловать, мой дорогой! Добро пожаловать! А багаж твой где?
Риккардо указал на свои скромные пожитки.
– Ахмед! Ахмед!
Араб в широких шароварах взбежал по сходням, схватил на плечи чемодан и понес его в таможню.
Таможенный офицер, перед которым поставлен был чемодан, вежливо раскланялся с ними, и чемодан снова очутился у Ахмеда на плече. Не было сделано никаких попыток осмотреть его.
– Как поживает синьор Роспиньи? – спросил Сицио Скарфи.
– Он у себя. Угодно вам пройти к нему?
– Нет. Но передайте ему, чтобы он зашел ко мне в контору сегодня вечером!
– Передам. – Таможенный офицер раскланялся.
– Как видишь, я на дружеской ноге с персоналом таможни, – кратко пояснил Сицио. – Роспиньи – сицилиец и друг нашей семьи.

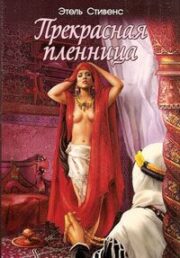
"Прекрасная пленница" отзывы
Отзывы читателей о книге "Прекрасная пленница". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Прекрасная пленница" друзьям в соцсетях.