В Тауэр забирают сэра Николаса Кэрью, утверждая, что он собирался свергнуть короля, захватить трон и женить своего сына на принцессе Марии. Мне об этом рассказывает Уильям Фитцуильям, у него горят глаза, словно я сейчас упаду на колени и скажу, что втайне замышляла это с самого начала.
– Николас Кэрью? – не веря своим ушам, спрашиваю я. – Королевский конюший? Которого король любил и которому каждый день доверял себя на протяжении сорока лет? Его любимый товарищ на турнирах и войне, с тех пор, как они вместе росли?
– Да, – отвечает Уильям, и радость на его лице тает, потому что и он был их товарищем и знает, насколько все это неразумно. – Он самый. Вы разве не знали, что Кэрью любил королеву Катерину и не был согласен с тем, как король обращается с принцессой?
Я пожимаю плечами, словно это не важно.
– Многие любили королеву Катерину, – говорю я. – Король любил королеву Катерину. Ваш Томас Кромвель собирается казнить весь ее двор? Так это тысячи. И вы среди них.
Уильям вспыхивает.
– Вы считаете себя самой умной! – выпаливает он. – Но вы в конце концов окажетесь на плахе! Попомните мои слова, графиня. Вы окажетесь на плахе.
Я сдерживаю гнев и слова, потому что думаю, что тут есть нечто большее, чем срыв молодого человека из-за того, что старуха знает больше, чем он когда-либо сможет узнать. Я смотрю ему в лицо, словно читаю красные сосуды, редеющие волосы, жирок потворства слабостям под подбородком, мелочное и надутое лицо.
– Может быть, и так, – тихо говорю я. – Но можете сказать своему хозяину Кромвелю, что я ни в чем не виновата и что, если он меня убьет, он убьет невинную женщину, и моя кровь, и кровь моих родных запятнает его навеки.
Я смотрю в его внезапно побелевшее лицо.
– И вас, Уильям Фитцуильям, – добавляю я. – Люди будут помнить, что вы удерживали меня в своем доме против моей воли. Сомневаюсь, что вы надолго сохраните свой дом.
Пока стоят холода, я скорблю о своем сыне Монтегю, оплакиваю его честность, его неколебимую честь и его чувство товарищества. Я виню себя за то, что не ценила его прежде, что позволила ему думать, будто моя любовь к Джеффри сильнее, чем к другим мальчикам. Я жалею, что не сказала Монтегю, как он мне дорог, как я зависела от него, как мне нравилось смотреть, как он растет и достигает блестящего положения, как грели меня его шутки, как берегли его предостережения; он был человеком, которым гордился бы отец, которым гордилась я – и до сих пор горжусь.
Я пишу своей невестке, его вдове Джейн; она не отвечает, но оставляет на моем попечении своих дочерей. Возможно, она уже устала получать письма, на печати которых стоит белая роза. Мои покои в башне Коудрея тесны и малы, моя спальня еще меньше, поэтому я настаиваю, чтобы внучки каждый день гуляли со мной в саду у холодной реки, какая бы ни была погода, и дважды в неделю ездили верхом. За ними постоянно следят, чтобы они не получили писем, и они стали бледными и тихими, осторожными, как бывалые заключенные.
Странно, но, потеряв Монтегю, я вспоминаю, как потеряла его брата Артура, и снова горюю о нем. Я отчасти даже рада, что Артур не дожил до этого и не увидел трагедию своей семьи и безумие своего бывшего друга, короля. Артур умер в солнечные годы, когда мы думали, что возможно все. Сейчас мы в холодном сердце долгой зимы.
Мне снится брат, шедший на смерть тем же путем, что и мой сын, снится отец, тоже умерший в Тауэре. Иногда мне просто снится Тауэр, его квадратная грозная масса, словно белый палец, указывающий вверх, обвиняющий небо, и я думаю, что молодым мужчинам моей семьи он служит надгробием.
Гертруду Куртене, вдову, все еще держат там, в стылой камере. Со временем дело против нее становится серьезнее, а не забывается, поскольку Томас Кромвель находит все новые письма, – говорит, что от нее, – в покоях тех, кого надеется взять под стражу. Если верить Кромвелю, моя кузина Гертруда всю жизнь писала изменнические послания всем, кого подозревает Кромвель. Но Кромвелю нельзя бросить вызов, поскольку он претворяет в жизнь прихоти короля. Когда весной судят Николаса Кэрью, в качестве свидетельства против него предъявляют целую пачку писем Гертруды, хотя никто их не видит вблизи, кроме Кромвеля.
Николас Кэрью, ближайший друг короля, любящий придворный королевы Катерины, верный друг принцессы, идет на эшафот на Тауэрском холме по следам моего сына и умирает, так же как Монтегю, без всякой причины.
Бедный Джеффри, несчастнейший из моих сыновей, чья жизнь хуже смерти, получает помилование, и его отпускают. Его жена дома, она ждет ребенка, поэтому он, спотыкаясь, выходит из боковых ворот, нанимает лошадь и едет к жене в Лордингтон. Он не пишет мне, не присылает весточку, он не пытается меня освободить, не пытается очистить мое имя. Мне кажется, он живет как мертвец, заточенный в своей роковой ошибке. Я гадаю, не презирает ли его жена. Он, должно быть, сам себя ненавидит.
Этой весной я думаю, что унижена, как никогда раньше. Иногда я вспоминаю своего мужа, сэра Ричарда, всю жизнь пытавшегося спасти меня от судьбы моей семьи, и думаю о том, как подвела его. Я не уберегла его сыновей, я не смогла спрятать свое имя в его имени.
– Если бы вы признались, вас бы помиловали и вы были бы свободны, – во время одного из своих постоянных визитов в мои покои говорит Мейбл.
Она приходит раз в неделю, словно как хорошая хозяйка, хочет удостовериться, что у меня есть все, что нужно. На самом деле она приходит по наущению своего мужа, допрашивать меня и терзать мыслями о побеге.
– Просто признайтесь, Ваша Милость. Признайтесь, и сможете вернуться домой. Вы, должно быть, мечтаете вернуться домой. Вы же всегда говорите, что очень по нему скучаете.
– Я мечтаю оказаться дома и уехала бы туда, если бы могла, – ровным голосом отвечаю я. – Но мне не в чем признаваться.
– Но обвинение-то пустяковое! – замечает Мейбл. – Вы бы могли признаться, что как-то вам померещилось, что король – не слишком хороший король, и этого хватит, это все, что от вас хотят услышать. По новому закону это будет признанием в измене, и вас смогут за нее простить, как Джеффри, а вы будете свободны! Все, кого вы любили и с кем сговаривались, все равно мертвы. Вы никого не спасете, превращая свою жизнь в мучение.
– Но мне никогда такое не мерещилось, – ровно отвечаю я. – Я никогда не думала о таком, не говорила такого и не писала о таком. Я никогда не сговаривалась ни о чем ни с кем, мертвым или живым.
– Но вам ведь, наверное, было жаль, что казнили Джона Фишера, – быстро говорит она. – Такого хорошего человека, такого святого?
– Мне было жаль, что он пошел против короля, – отвечаю я. – Но я не шла против короля.
– Ну хорошо, вам было жаль, что король оставил вдовствующую принцессу Катерину Арагонскую?
– Конечно. Она была моей подругой. Мне было жаль, что их брак оказался недействительным. Но я ничего не говорила в ее защиту и приняла присягу, в которой он был объявлен недействительным.
– И вы хотели служить леди Марии, даже когда король объявил ее бастардом. Я знаю, что хотели, вы же не можете это отрицать!
– Я любила леди Марию и сейчас люблю, – отвечаю я. – Я бы служила ей, какое бы положение она ни занимала в этом мире. Но я ничего для нее не требую.
– Но вы считаете ее принцессой, – давит на меня Мейбл. – В душе.
– Я думаю, это решать королю, – говорю я.
Она умолкает, встает и прохаживается по тесной комнате.
– Я вас не вечно буду тут терпеть, – предупреждает она. – Я сказала мужу, что не могу вечно содержать вас и ваших дам. И милорд Кромвель захочет положить этому конец.
– Я с радостью уеду, – тихо отвечаю я. – Я бы могла тихо поселиться дома, ни с кем не видеться и никому не писать. У меня не осталось сыновей. Я виделась бы только с дочерью и внуками. Я могу это пообещать. Меня могли бы отпустить на поруки.
Она разворачивается и смотрит на меня, ее лицо светится от злости, она открыто смеется над моими надеждами.
– Какой дом? – спрашивает она. – У изменников не бывает дома, они все теряют. Куда вы, по-вашему, поедете? В ваш большой замок? В красивые поместья? В роскошный дом в Лондоне? Все это больше не ваше. Вы никуда не поедете, если не сознаетесь. А я вас тут не стану терпеть. Есть только одно место, куда вы можете отправиться.
Я молча жду, чтобы она назвала то место в мире, которого я больше всего боюсь.
– Тауэр.
Меня везут верхом, позади одного из стражников Уильяма Фитцуильяма. Мы выезжаем до рассвета, когда небо медленно светлеет и начинают петь птицы. Едем по узким тропам Сассекса, обочины которых усыпаны маргаритками, а в изгородях пенится белым цветом боярышник, мимо лугов, где растет густая и сочная трава, пестреют цветы и заливаются, радуясь жизни, птицы. Мы едем весь день, до самого Ламбета, где нас ждет простая барка без флага. Томас Кромвель явно не хочет, чтобы граждане Лондона видели, как я по стопам своих сыновей еду в Тауэр.
Наша водная дорога странна, словно сон. Я одна на барке без знаков различия, словно отринула семейный стяг и свое имя, словно наконец-то избавилась от своего опасного наследия. Смеркается, солнце садится у нас за спиной, вытянув вдоль реки длинный палец золотого света, водные птицы летят к берегу и устраиваются на ночь, плещась и крякая. Я слышу где-то в лугах кукушку и вспоминаю, как Джеффри, когда был маленьким, слушал первых весенних кукушек у сестер в Сайонском аббатстве. Теперь аббатство закрыто, а Джеффри сломлен, и только вероломная птица, кукушка, кричит по-прежнему.
Я стою на корме, смотрю на наш след на бурлящей воде и на заходящее солнце, от которого волнистое небо становится розовым и сливочным. Я плавала вниз по течению этой реки много раз; я была на коронационной барке, как почетная гостья, член королевской семьи, ходила на собственной барке под собственным флагом, я была богатейшей женщиной Англии, мне оказывали высочайшие почести, у меня было четверо прекрасных сыновей, они стояли рядом со мной, и каждый был достоин унаследовать мое имя и состояние. А теперь у меня почти ничего нет, и безымянная барка скользит по реке, никем не замеченная. Глухо стучит барабан, гребцы ударяют веслами ему в такт, барка движется вперед, с ровным шорохом рассекая воду, и мне кажется, что все это мне приснилось, все было сном, и теперь сон подходит к концу.
Показывается темный силуэт Тауэра, большую решетку водных ворот поднимают при нашем приближении; и комендант Тауэра, сэр Уильям Кингстон, ждет на ступенях. Бросают сходни, я уверенно иду к коменданту, высоко подняв голову. Он очень низко кланяется мне, и я вижу, какое бледное и напряженное у него лицо. Он подает мне руку, чтобы помочь подняться по ступеням, и когда он шагает вперед, я вижу мальчика, который стоял за его спиной. Я вижу этого мальчика, узнаю его, и сердце мое замирает при виде него, словно я рывком проснулась и поняла, что это не сон, но худшее, что случалось со мной за долгую, долгую жизнь.
Это мой внук Гарри. Мой внук Гарри. Мальчика Монтегю арестовали.
Он вопит от радости, видя меня, и я чуть не плачу, когда он обхватывает меня за талию, а потом скачет вокруг меня. Он думает, что я приехала его забрать домой, и смеется от радости. Пытается подняться на борт барки, и мне не сразу удается объяснить ему, что меня саму взяли под стражу; я вижу, как бледнеет от ужаса его лицо, как он старается не заплакать.
Мы беремся за руки и вместе идем к темному входу. Нас поселили в башне над садом. Я отступаю и смотрю на сэра Уильяма.
– Только не здесь, – говорю я. Я не скажу ему, что мне невыносимо быть заточенной там, где мой брат все ждал и ждал освобождения. – Не в этой башне. Я не осилю ступеньки. Они слишком узкие и крутые. Я не могу по ним подниматься и спускаться.
– Ну так не будете подниматься и спускаться, – мрачно шутит он в ответ. – Только подниметесь. Мы вам поможем.
Меня почти на руках заносят по винтовой лестнице в комнату второго этажа. У Гарри маленькая комнатка над моей, ее окно выходит на лужайку, а узкая стрельчатая арка – на реку. Огонь не разведен ни в одном очаге, в комнатах холодно и уныло. Голые каменные стены изрезаны именами и знаками прежних узников. Я не могу заставить себя искать имена отца, брата или сыновей.
Гарри подходит к окну и показывает на своего кузена, сына Куртене, внизу на узкой дорожке. Он вместе с матерью Гертрудой живет в башне Бошан; их комнаты поудобнее, Эдварду очень скучно и одиноко, но их с матерью вдоволь кормят, им выдали теплые вещи на зиму. Гарри – жизнерадостный одиннадцатилетний мальчик, он уже повеселел оттого, что я с ним. Он просит меня навестить Гертруду Куртене и поражается, когда я отвечаю, что мне не позволено покидать комнату и что, когда он будет приходить ко мне, за ним будут запирать дверь и он сможет выйти, только когда за ним придет стражник. Он смотрит на меня, нахмурившись, его невинное личико озадачено.

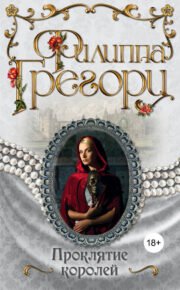
"Проклятие королей" отзывы
Отзывы читателей о книге "Проклятие королей". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Проклятие королей" друзьям в соцсетях.