Напрасно я обшаривал взглядом большой холл, где теснилась чертовски густая толпа из множества неразличимых лиц, толпа, образовавшая передо мной своего рода затор из людей. Оркестр уже настраивал инструменты, когда я, словно наказанный двухчасовым стоянием в углу ребенок, покорился судьбе и занял свое место в середине партера, надеясь вопреки всему, что какой-нибудь невероятный случай позволит мне заметить очаровательное личико Эллиты где-то рядом со мной (или далеко от меня, ибо я был согласен на любые уступки), но обнаружил, что меня окружают лишь враждебные затылки и безнадежно непрозрачные головы.
Зал еще не кончил аплодировать последней пьесе, а я уже снова занял свой пост на тротуаре, твердо решив, что никто не покинет этого места без моего ведома: я готов был пересчитать по одному всех обитателей нашей планеты. Но публика хлынула из зала, как вода, смывающая плотину, и это стихийное бедствие вынесло меня на середину шоссе: Эллиты не было в том потоке чужих лиц, где только что потонула моя последняя надежда встретиться с нею сегодня. Мне не оставалось ничего иного, как вернуться домой, в уготованный мне судьбою уголок огромного мира, отныне лишенного счастья.
Я обернулся в последний раз перед тем, как спуститься в метро, подобно осужденному, который пытается еще секунду полюбоваться солнечным светом, прежде чем навсегда сгинуть в своей темнице. Несколько человек еще не ушли и болтали возле закрытых дверей зала Плейель. Мне захотелось вернуться – не в надежде найти там Эллиту, а просто потому, что я не мог заставить себя спуститься по ступенькам метро, уйти с этого тротуара, который, несмотря ни на что, хранил тень, либо аромат, либо след моей любимой. Наверное, нужно такое же исключительное мужество, чтобы сжечь последнее письмо той, которая покидает тебя, даже если в нем нет ничего, кроме приводящих в отчаяние равнодушных слов, потому что тебе кажется, будто это письмо все же является связующей нитью между вами, и ты будешь перечитывать снова и снова строки, нехотя набросанные той, которая уже и не вспоминает о тебе, не в силах признать, что в них нет ничего, кроме твоего одиночества. Я вдруг понял, как был счастлив последние несколько дней. Я даже пожалел о том, что хотел увидеть Эллиту: ведь этим я так или иначе испортил свою мечту о ней. Мое счастье состояло в том, чтобы представлять себе нашу встречу, которая становилась с каждым днем и тем более с каждой ночью все прекраснее от того, что снова и снова откладывалась, проецируясь в неопределенное будущее. Теперь я находился уже не в «до» этой воображаемой встречи, а в безрадостном и банальном «после» несостоявшегося свидания. Эллита больше не была существом воображаемым и оттого еще более очаровательным, а стала просто недоступной девушкой, в сущности, незнакомкой, которая, ускользнув от меня, обрела реальность.
Я так и не смог спуститься в метро и решил идти домой пешком, чтобы не слишком быстро удаляться от призрака Эллиты, еще парившего над местом, где я потерпел фиаско.
То была минута, когда отчаявшийся герой в последний раз взывает к волшебникам и феям с мольбой изменить в самый критический момент его судьбу к лучшему. Так бывает порой с желаниями, настолько сильными и насущными, что и в голову не придет удивляться, когда ни с того, ни с сего они исполняются вдруг сами по себе: пока я предавался самым горестным размышлениям о моей несбыточной любви, передо мной, как из воздуха, внезапно возникла, по вторичному мановению волшебной палочки, тетушка Ирэн. Вот уж ее-то можно было бы узнать из тысячи – благодаря зеленым перьям на шляпке. Она сидела за столиком на тротуаре перед кафе «Лотарингия» и попивала чай, а вернее – подняв чашку ко рту, говорила, причем ей по обыкновению надо было столько всего сказать, что, казалось, чашка просто висит в воздухе у рта, словно рука человека, скрывающая от собеседника зевок или безумное желание рассмеяться. Эллита слушала или делала вид, что слушает. Взгляд ее на мгновение встретился с моим, озарив меня ярким светом, как отблеск солнца в створке открывающегося окна. Я понял, что она узнала меня по обозначившейся у нее на лице полуулыбке, которую она тут же спрятала, опустив глаза, – словно поправила вырез платья. Я пробрался меж столиков к стулу, на который мне указала тетушка, и сел в состоянии, близком к обморочному, в какое нас порой ввергает внезапный избыток счастья. Мне казалось, что я растворился в восхитительном смятении чувств, почти лишившись способности воспринимать окружающее. Тетушка Ирэн, естественно, продолжала о чем-то говорить, сейчас уже не знаю, о чем, как скорее всего не знал и тогда: с веселым равнодушием я позволял этому потоку слов проноситься мимо. Вид у меня был, наверное, блаженно-идиотский или просто-напросто влюбленный, но я совершенно не мог сопротивляться ее чарам, и мне не оставалось ничего иного, кроме как плавать среди обломков собственной воли во взгляде, которым девушка, поняв мое состояние, теперь обволакивала меня уже открыто.
– Ты из зала Плейель? – спросила тетушка спустя минуту. И прокомментировала для Эллиты: – Мой племянник уже несколько лет покупает абонементы на Паделуповские концерты.
Девушка бросила на меня иронично-одобрительный взгляд. Я попытался защититься от лжи тетушки еще более глупой ложью, сказав, что оказался в этом квартале случайно и что не пошел в этот раз на концерт, потому что программа показалась мне неинтересной.
Больше я не сказал ничего. Эллита тоже, казалось, была не склонна поддерживать разговор и предоставляла тетушке вести беседу. Похоже, это стало уже давней традицией между девушкой и гувернанткой, чья неутолимая словоохотливость была столь же неизменна, как и украшенные пером шляпы. Однако в то время как молчание Эллиты свидетельствовало о ее душевном спокойствии, возможно даже не лишенном некой веселости, в моей собственной немоте отражалась прежде всего боязнь наговорить глупостей или, точнее, добавить таковых к тем комплиментам, которыми добрейшая тетушка отягчала меня с такой простодушной и убийственной любезностью. А кроме того, на протяжении последних недель я жил в одной из тех сказок, где от нескольких магических слов зависит появление либо исчезновение любимого существа, и потому боялся нечаянно произнести какую-нибудь роковую фразу, которая навсегда бы отняла у меня Эллиту, растворив ее в клубах дыма или струе пара, вдруг втягивающейся у меня на глазах обратно в носик чайника.
Так что я ограничился тем, что созерцал, стараясь делать это возможно незаметнее, безмятежную Эллиту. Она была одета в темно-синюю плиссированную юбку и белую блузку, какие носят ученицы церковных школ. Куда она ходила – в школу Святой Марии или, может быть, в школу Сионской Богоматери? – я никогда не спрашивал об этом тетушку Ирэн. И почему она была в школьной форме в воскресенье? Неужели она одевалась так и в другие дни? Я не мог вспомнить, что на ней было, когда я увидел ее на лестничной площадке перед дверью нашей квартиры. Юбка, достаточно длинная, закрывала колени. На блузке с короткими рукавами не было никаких украшений. Строгое одеяние не только прятало плечи и колени Эллиты, но и скрывало, если можно так выразиться, ее душу: эта слишком скромная форма ничего не говорила ни об образе жизни, ни о вкусах девушки. Только тут я заметил на ней цепочку, тоненькой золотой струйкой сбегавшую по груди, чтобы затеряться в вырезе блузки: я грезил о теплой и нежной впадинке, где прятался маленький крестик, этот благостный образ. Я нисколько не сожалел о том, что Эллита, скорее всего, была воспитанницей сестер-монахинь: ведь тоненький золотой ручеек, проторивший себе путь по ее груди, вел не только к банальному, дешевенькому медальончику. Ну а если говорить о Пречистой Деве, то я тогда думал скорее о другом роде девственности, о потаенной чистоте сидевшей передо мной девушки, взгляд которой, улыбка и скромное поведение не в силах были скрыть ее тайну.
Спокойная и молчаливая, она была воплощением грации и совершенства. Ей не было нужды говорить: довольно и того, что она просто существовала там, куда ее, словно подарок взгляду, занес случай или собственный каприз, и я пока еще не осмеливался даже пытаться разглядеть, что скрывается за внешним обликом девушки, красота которой была столь самодостаточна, что никому бы и в голову не пришло ждать от нее чего-то иного. От нее исходило счастье идеального присутствия как такового. (Довольно долгое время, как я уже сказал, я осмеливался глядеть на Эллиту лишь украдкой, а значит, открывал ее для себя постепенно, как бы по крупицам. У меня была в голове только одна мысль: пробудить в ней интерес к себе. Но стоило ей бросить на меня взгляд, как я опускал глаза; я чувствовал себя окутанным такой нежностью, такой красотой, что старался сделаться как бы невидимым: мне хотелось отрешиться от себя самого, отстраниться от моего невероятного, бьющего через край счастья, уйти на цыпочках, пока мое собственное дыхание или, может быть, осознание собственной нескромности не вернули меня, грубо встряхнув, к действительности, то есть к одиночеству. Так что мне никак не удавалось увидеть Эллиту всю целиком, и мои воспоминания о ней еще и поныне являются лишь результатом моих робких краж, моей скудной, но драгоценной добычей, как тот трепещущий в ее волосах цветок каштана, который ветер в конце концов унес вместе с призраком моих не прикоснувшихся к нему пальцев, как ее едва различимые округлости в разрезе блузки – тайный трофей, который я, не умея насладиться им сразу, тотчас вверял своей памяти.)
Тетушка Ирэн в это время упорно продолжала болтать, жестикулировать и уничтожать меня комплиментами, не забывая упомянуть о том, как успешно, «с отличием» я сдал недавно первый экзамен на бакалавра. Для меня это была настоящая пытка. Ну почему феи непременно должны быть глупыми? Неужели их волшебство и в самом деле состоит из одной только простоватой неуклюжести? Неужели тетушка не сознавала, что она таким образом лишь увеличивает расстояние между недоступной Эллитой с ее казавшейся сверхсовершенной красотой и лицеистом, трудовые подвиги которого она расхваливала с таким энтузиазмом? Ибо Эллита, хотя ей и было всего шестнадцать, вызывала во мне смешанное чувство экзальтации и уныния, оттого что передо мной была женщина – существо, с таинственной гармонией которого даже желанию моему было не под силу состязаться.
Я пытался больше не слушать тетушку, не слишком сердиться на неловкую волшебницу, творившую чудеса лишь для того, чтобы разрушать их секундой позже. И в то же время я невольно испытывал к ней нежность. Я навсегда сохранил это чувство к моей доброй, невезучей тетушке, носившей на шляпках необычно окрашенные перья, напоминающие те, какие появляются у некоторых животных в брачный период. Впрочем, эти зеленые либо красные перья, торчавшие сантиметров на двадцать над головой и привлекавшие, словно семафор, взгляд, и в самом деле призывали гипотетического любовника, которого эта старая мечтательница, десятки лет назад покинутая мужем, все еще надеялась однажды завлечь, подобно тому, как пламя свечи ловит мотыльков.
Однако супруг ее исчез уж очень давно, и тетушка Ирэн чувствовала, что ей ничего не остается, кроме как наблюдать за жизнью других, пытаясь подбирать крохи с чужого стола. Свое настоящее жалованье за работу в качестве гувернантки она получала не в конце месяца, а взимала ежедневно, с наслаждением разнося всевозможные сплетни между домом Эллиты и другими местами, от почтового отделения до газетного киоска, то есть повсюду, где попадались люди, желавшие ее послушать. Я всегда думал, что она подстроила мою встречу с Эллитой вопреки тому, что моя мать запретила ей навязывать нам общение «с этими людьми». Я подозреваю, что волшебницы совсем бы заскучали, если бы не пользовались иногда своими волшебными палочками ради собственных желаний и из тяги к романтике.
Я убрал висевшие у моего изголовья две английские гравюры, опрятненький реализм которых казался мне признаком дурного вкуса. К сожалению, то был вкус моей матери, которая восприняла мое охлаждение к данным творениям как личное оскорбление. Но я был неумолим: дилижансу пришлось сдвинуться с места, а охоту на лису в своей комнате я запретил навсегда.
Я, разумеется, ничего не сказал о состоявшейся встрече. Мне было достаточно испорченного настроения в связи с перемещением гравюр. Разумеется, рано или поздно маман должна была догадаться о моей склонности к юной Линк. Она была не из тех, от кого можно долго скрывать свои мысли, но я был заинтересован, чтобы это произошло как можно позже. К тому же что мог я сказать ей, что доверить этой «заботливой матери», которая в глубине души льстила себя надеждой, что знает обо мне все? На самом деле маман старалась не столько хоть немного узнать меня, сколько укрепить свое сложившееся обо мне представление. А поскольку она заранее знала все, о чем я мог бы ей рассказать, я решил откровенничать с ней как можно меньше, что лишний раз убеждало ее в том, что я «витаю в облаках», и она советовала мне «спуститься с небес на землю», заниматься спортом и время от времени встречаться «с ребятами моего возраста».

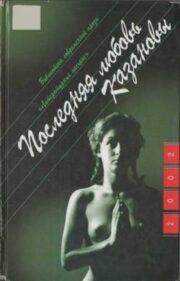
"Прощальный ужин" отзывы
Отзывы читателей о книге "Прощальный ужин". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Прощальный ужин" друзьям в соцсетях.