– Что? Да они все на меня западают! Я же горячая красотка из колледжа! Забыл? – рассмеялась она.
Я наклонился к Жаклин и сказал, что она действительно очень даже горячая и я хочу, чтобы сегодня она снова осталась у меня на ночь.
– А я боялась, ты об этом не попросишь.
Дурочка.
Харрисон оказался храбрецом: после концерта подошел и сунул моей девушке букет из дюжины роз. Он ужасно стеснялся, его зардевшаяся физиономия была под стать цветам, но галантность все-таки победила в нем страх, и это было достойно восхищения.
Жаклин поблагодарила ученика, поднесла розы к лицу и, блаженно зажмурившись, понюхала их. Когда она сказала, что гордится его выступлением, он приосанился и раздулся, как иглобрюх.
– Все благодаря вам, – просиял он.
– Нет, – улыбнулась Жаклин. – Ты работал, много репетировал. Это главное.
Примерно то же самое я говорил студентам, которые уверяли, что не сдали бы экономику без моей помощи.
– Ты здорово играл, старик! Хотел бы я тоже так уметь, – добавил я.
Парень смерил меня взглядом, и я с трудом поборол желание спросить, уж не хочет ли он со мной подраться. В итоге враждебность в его глазах сменилась любопытством:
– Спасибо. Больно было? Прокалывать губу?
Я пожал плечами:
– Не особо. Хотя пару крепких словечек я тогда произнес.
– Круто! – улыбнулся Харрисон.
Жаклин умела выбирать учеников.
Я тоже.
Мы уложили в грузовичок Жаклин все, что она собиралась взять с собой на каникулы. После этого она заперла свою комнату в общаге. Последнюю ночь перед отъездом мы решили провести у меня.
– Не хочу домой. Но если я не приеду, родители явятся за мной сюда.
Стоя у меня в ванной в моей футболке, Жаклин чистила зубы. Ополоснув рот, она посмотрела на мое отражение в зеркале:
– Вчерашнее оказалось для моей мамы последней каплей. Даже когда я упала с дерева, она расстроилась не так сильно.
– Я буду здесь, – пообещал я, обхватывая Жаклин за талию, – буду тебя ждать. Если захочешь, приезжай пораньше. Поживем у меня, пока не откроется общага. Но все-таки поезжай, дай маме шанс.
Она огорченно посмотрела моему отражению прямо в глаза, понимая, к чему я клоню.
– Тогда ты дай шанс своему отцу.
Хитрый ход, Жаклин!
Я состроил гримасу:
– Ладно.
Она вздохнула и выпятила нижнюю губу:
– Раз уж ты меня отсылаешь, может, хоть попрощаемся как следует?
– Это обязательно, – пробормотал я, прищурив глаз.
Глядя на нас в зеркало, я снял с Жаклин футболку, поднес руки к ее прекрасной груди, тронул пальцами соски. Потом моя ладонь скользнула ей по животу и опустилась ниже. От моего поглаживающего движения Жаклин приоткрыла рот и запрокинула голову мне на плечо, не закрывая глаз. Как она была красива в этот момент! Я млел от того, как она отзывалась на мои прикосновения, и хотел прикасаться к ней снова и снова.
Я глухо застонал, теснее прижав Жаклин к себе, когда она завела руку за спину и взялась за меня пальцами. Нагнулся, поцеловал ее шею и, закрыв глаза, щекотнул ее своим дыханием.
– В постель?
– В постель, на кухонный стол – куда хочешь, – ответила она, и я застонал.
Восстановив душевное равновесие достаточно, чтобы поднять веки, я увидел, что мои глаза потемнели до цвета свинцовых дождевых туч и контрастировали с летней голубизной глаз Жаклин. Движущаяся картинка, которую я наблюдал в зеркале ванной, была сексуальнее любого эротического видео.
– Ну хорошо, – сказал я, проскальзывая в нее пальцами. – Тогда давай начнем прямо здесь.
Мы лежали в постели, обнявшись и усталые до изнеможения. Раковина в ванной – галочка, стул перед письменным столом – галочка, диван – две галочки. И все равно я предвкушал, что через несколько часов мы очнемся и попрощаемся еще разок.
Только Жаклин пока не собиралась засыпать.
– Как тебе Харрисон? – спросила она, с подозрительной сосредоточенностью глядя мне в лицо.
– Вроде хороший пацан.
– Вот именно.
Она погладила меня по щеке, проследив взглядом за движением пальцев. Я притянул ее к себе и спросил, с чего это она вдруг заговорила о своем ученике:
– А что, Жаклин, ты бросаешь меня и уходишь к Харрисону?
Я ожидал, что она закатит глаза и рассмеется, но она смотрела на меня по-прежнему серьезно.
– Если бы в ту ночь, – продолжила она, – на стоянке вместо тебя оказался Харрисон, думаешь, он бы мне помог? – Стоянка. Бак. – Если бы кто-нибудь в шутку попросил его за мной присмотреть, а потом случилось бы то, что могло случиться, разве его стали бы упрекать?
Мне стиснуло грудь.
– Я понимаю, что ты пытаешься сказать.
Жаклин дрожала в моих руках, но не собиралась отпускать меня с крючка:
– Нет, Лукас. Ты это только слышишь, но не понимаешь, не принимаешь. Твой отец не мог на самом деле рассчитывать на то, что ты защитишь маму. Наверняка он давно уже не помнит тех своих слов. Он винит во всем себя, а ты – себя, но не виноваты ни ты, ни он.
Глаза Жаклин были влажными, но взгляд оставался твердым. Мне стало трудно дышать, и я обхватил ее так, будто меня уносило с Земли – ни кислорода, ни гравитации.
– Никогда не забуду, как она кричала. Разве я могу себя не винить? – проговорил я, еле сдерживая слезы, от которых все вокруг помутнело.
Жаклин заплакала, не отнимая пальцев от моего лица и крепко сжимая мою руку. Видя, как крупные капли одна за другой падали мне на подушку с ее ресниц, я представлял себе ребенка, которым был восемь лет назад. Я никогда не спрашивал отца, считал ли он меня виноватым. Просто решил, что считал. Но Жаклин, наверное, была права: его охватило безутешное горе, и он винил во всем себя, хотя никому другому и в голову не пришло бы его упрекать. Я взял с него пример.
– Что ты мне сам всегда говоришь? Это не твоя вина, – напомнила Жаклин.
Еще она сказала, что я должен побеседовать с кем-нибудь, кто поможет мне себя простить. Я хотел разговаривать только с ней, но не мог попросить об этом. Синди сто раз советовала мне обратиться к специалисту и уверяла, что смирилась с потерей лучшей подруги во многом благодаря сеансам психотерапии. Но я привык отвечать, что мне ничего не нужно.
У меня все хорошо. Все в порядке.
На самом деле я не был в порядке и мне не было хорошо. Та ночь надломила меня, и я возвел вокруг себя стены, чтобы не сломаться окончательно. Но есть боль, от которой не спасут никакие бастионы. Я остался таким же хрупким, как все вокруг. Как девушка, которую я сейчас обнимал. Но я мог надеяться, мог любить. А значит, мог и выздороветь.
Глава 26
Лэндон
В последнее время меня стало трудно напугать, но сейчас я был еле жив от страха, хотя и не собирался это показывать.
Все нормально. Нечего бояться. Нечего.
– Ты готов, Лэндон? – спросил Чарльз.
Я кивнул. Все мое имущество уже было погружено в багажник хеллеровского внедорожника. Я вез с собой спортивную сумку и рюкзак, а одежду за неимением чемодана сложил в большие черные пакеты, похожие на мешки для мусора. Да этим обноскам и правда было самое место на помойке. Книги и блокноты легли в пустые коробки, которые я добыл в «Снастях и наживке». Они воняли рыбой и обещали пропитать своим запахом всю машину и все мое барахло уже за первые пять миль пути.
К черту побережье! Скучать не буду. И возвращаться не захочу.
Отец с обколотой кружкой в руках стоял, расставив ноги, на переднем крыльце. Доски покоробились и почернели от непогоды. По идее, любая древесина должна была моментально сгнить в этом климате, однако наш дом каким-то чудесным образом стоял из десятилетия в десятилетие и плевать хотел на ветер, дождь, тропические бури и безжалостную соленую воду, которая наполняла своим тяжелым запахом весь городишко.
Маленьким я с удовольствием наведывался сюда каждое лето к дедушке. Папа терпеть не мог возвращаться в родной дом, но мама всегда ему говорила:
– Он же твой отец. Дед Лэндона. Семья – это важно, Рэй.
Теперь я уезжал, а папа оставался.
В нашем обветшалом домишке, стоявшем прямо на пляже, днем и ночью слышался морской прибой. В детстве гостить здесь было примерно то же, что неделю прожить в шалаше на дереве или в палатке на заднем дворе – никаких удобств, но все так необычно, так не похоже на повседневный уклад, будто ты попал в другой мир или на необитаемый остров.
Исследовав побережье, я обычно расстилал на горячем песке одно из больших мягких полотенец, которые мама каждый раз привозила с собой, а после оставляла у дедушки. Мое детское тело целиком умещалось на полоске махровой ткани. Рядом с собой я раскладывал ракушки, собранные за день на бесконечном белом пляже, о котором потом взахлеб рассказывал друзьям дома, в Александрии.
Вечером я смотрел в огромное темное небо, где тысячи звезд мигали, будто переговаривались друг с другом. Думал о том, кем стану, когда вырасту. Мне нравилось рисовать, а еще у меня было неплохо с математикой – настолько хорошо, что меня называли бы ботаном, если бы не мои подвиги на льду. Я мог стать художником, ученым или профессиональным хоккеистом. Кажущаяся бесконечность неба, песка и океана поглощала меня, и мои возможности тоже представлялись неисчерпаемыми.
Каким я был наивным идиотом!
Те полотенца и сейчас хранились здесь, старые и ветхие, как и все в доме, который еще не превратился в груду хлама в буквальном смысле, но уже вплотную приблизился к этому состоянию.
Отец выглядел старше своих лет. Он был немного моложе Хеллера, и ему еще не исполнилось пятидесяти, но с виду он тянул на все шестьдесят.
Это от солнца и соленой воды.
Это оттого, что он замкнутый бессердечный засранец.
Полегче, Лэндон, не перегибай.
Ладно.
Это от горя.
Он наблюдал за тем, как я грузил свои пожитки в машину его лучшего друга. Глядя на него, можно было подумать, что это нормально – отправляя в колледж единственного ребенка, перекладывать свои отцовские обязанности на посторонних. А вообще-то, он умыл руки уже давно. С тринадцатилетнего возраста я сам как мог боролся с желанием покончить с собой: падал, барахтался, цеплялся за жизнь когтями. Пять лет я кое-как существовал, не думая о завтрашнем дне. Сам выбирал, вставать мне утром или нет, идти в школу или не идти, делать что-нибудь или на все насрать.
Хеллер дал мне возможность выбраться из этой ямы, и я не собирался, черт возьми, извиняться за то, что воспользовался его помощью.
– Обними отца на прощание, Лэндон, – пробормотал Чарльз, закрывая багажник.
– Но он не… Мы не…
– А ты попробуй. Давай.
Вздохнув, я развернулся и подошел к крыльцу.
– Пока, папа, – послушно проговорил я, только чтобы выполнить просьбу Чарльза.
Отец поставил свою кружку с надписью «Наживка для рыбака» на перила, и теперь его руки были свободны.
Провожая меня, он оставался в тишине и одиночестве. Я вдруг представил себе, насколько иначе выглядел бы мой отъезд в колледж, будь мама жива. Я бы наклонился, чтобы поцеловать ее, а она обвила бы руками мою шею и заплакала. Сказала бы, что гордится мной, взяла бы с меня обещание звонить, почаще приезжать и все ей рассказывать. Я бы тоже заплакал.
Ради единственной женщины, которую любили мы оба, я шагнул к отцу и протянул руки. Он молча меня обнял.
Я смотрел в боковое зеркало на удалявшийся городок. «Отраженные предметы ближе, чем кажутся», – при всей своей любознательности я не собирался оглядываться, чтобы проверить истинность этой предупреждающей надписи. Через пять минут городишко должен был скрыться из виду, и я хотел как можно скорее стереть из памяти прожитые в нем годы.
– Включи свою любимую волну, – предложил Чарльз, прервав мои размышления. – Если это не те вопли, которыми глушит себя Коул. По-моему, он называет музыкой обычные шумовые помехи.
Старшему сыну Чарльза было пятнадцать лет. Когда мы встречались, он всегда обезьянничал: одевался, как я; слушал то же, что и я; везде за мной ходил и все за мной повторял. А я, признаться, не всегда был хорошим примером для подражания. Главный жизненный принцип Коула мог бы звучать примерно так: «Да здравствует все, что раздражает моих предков!»

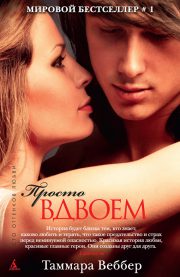
"Просто вдвоем" отзывы
Отзывы читателей о книге "Просто вдвоем". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Просто вдвоем" друзьям в соцсетях.