– Кузьма Матвеич, вы, что ль? Пошто рано-то так?
– Данка заболела, – коротко пояснил Кузьма, входя в дом следом за женой. – Дети спят?
– А то… Уложил с грехом пополам. Все никак угомоняться не желали, спой им и спой «Дай, милый друг, на счастье руку…». А куды мне, старому? Такое только Дарье Степановне впору. Спел им «Солдатушки-ребятушки», с тем и успокоились.
– Мишка не чихал больше?
– Не слыхать было. Я их чаем с липой напоил, первеющее средство.
– Спасибо, Фомич. Ложился бы и сам. – Кузьма, стоя посреди комнаты, слушал, как за печью, шепотом ругаясь, переодевается Данка. Знал – не даст помочь, но мало ли что…
– Бессонница у тебя, дед?
– Она, проклятая, – кивнул Фомич, зашаркал обрезанными валенками к выходу, приговаривая: – Экая ветрища-то поднялась… Ровно зимой. Крышу бы, спаси господь, не разметало, а то куды ж…
Когда дверь за стариком закрылась, Кузьма пересек комнату, отдернул ситцевую старую занавеску, отгораживающую угол. Дети спали вдвоем на низких нарах, застеленных периной и лоскутным одеялом. Десятилетний Мишка лежал, отвернувшись к стене, и Кузьма видел только его курчавый черный затылок. Его сестра обнимала во сне потертого тряпичного медведя. Кузьма поправил ей подушку, подоткнул почти сползшее на пол одеяло.
За спиной послышался шорох, Кузьма обернулся. Увидев Данку в длинной ночной рубашке, шепотом сказал:
– Что ты бродишь? Ложись спать.
Она отстранила его, наклонилась над постелью. Поцеловав спящих детей, выпрямилась, коротко взглянула на Кузьму: длинные глаза блеснули в свете лампы. Отвернулась и молча ушла в спальню.
Кузьма не пошел за женой. Оставшись один, он некоторое время мерил шагами пустую комнату, прислушиваясь к свисту ветра в печной трубе, затем сел на табурет у окна, взял в руки забытую Фомичом кружку, отпил остывшего чая. За окном начался дождь, ветер трепал ветви яблонь, прижимая их вывернутыми наизнанку листьями к оконному стеклу. За занавеской тихо сопели дети, трещал за печью сверчок. Из-за двери, куда ушла Данка, не слышалось ни звука. Кузьма оперся локтями о стол, запустил обе руки во взлохмаченные волосы. Устало подумал: «Ну что вот теперь делать?»
Съезжать из Питера надо, вот что. Не будет Данка петь – что они вчетвером есть будут? На его, Кузьмы, заработок долго не протянешь, жизнь в Питере дорогая, хуже, чем в Москве. Сейчас еще и на докторов разоренье… Он-то, Кузьма, везде работу найдет. Уж если здесь, в Питере, он не последним гитаристом оказался, то в любом уездном городишке цыгане его просто с руками оторвут. Опять же, житье дешевле будет… Но вот как Данку уломать? Как заставить ее забыть о пении, о плясках? Что она еще может делать, что еще захочет? Когда-то гадать умела, таборная все-таки, но ведь все, наверное, позабыла… Кузьма закрыл глаза, вспоминая, сколько лет прошло. Восемнадцать? Двадцать?
Двадцать два. Им обоим, ему и Данке, было по пятнадцать, когда они встретились в весенней Москве; Кузьма даже помнил, что это случилось на Страстной неделе, перед самой Пасхой. Цыганская оборванная девка во вдовьем платке, сидящая на каменной тумбе и распевающая на все Замоскворечье жалостные каторжанские песни… А он стоял в толпе, среди других слушателей, дрожащими пальцами выискивал в кармане копейки, чтобы дать ей, смотрел в темное, недетски суровое лицо, в длинные глаза с голубой ведьминой искрой, ловил ее сумрачный взгляд и уже знал: женится на этой девчонке-вдове любой ценой. Сам он пел тогда в хоре Якова Васильева из Грузин и в тот же день привел Данку на Живодерку, в дом Макарьевны, где жил вместе со Смоляковыми, братом и сестрой.
Было бы ему тогда не неполных шестнадцать, а хотя бы двадцать… Был бы он поумней, не одурел бы так от этой дикой красоты, от глаз этих шальных, может, и понял бы, что дело не совсем чисто. И заметил бы тот взгляд, которым обменялись Смоляковы при виде Данки, и ее побледневшее от страха лицо тоже заметил бы. Но откуда Кузьме тогда было знать, что Смоляковы и Данка были из одного табора, что они все про нее знали: что Данка никогда не была вдовой, что не смогла даже выйти толком замуж, ее выкинули из табора и из семьи за то, что простыня с ее брачной постели оказалась чище первого снега? Кузьма до сих пор не мог понять, почему Илья промолчал в тот вечер. То ли не хотел позорить «свою» перед «городскими», то ли надеялся, что Данка наутро сама уберется из города… Зря надеялся. Ночью Кузьма пришел в каморку, где, свернувшись на полу в клубок, спала Данка, и она не оттолкнула его.
На рассвете Кузьма предложил Данке стать его женой. Она согласилась, потому что выбирать ей было не из чего. Сейчас, столько лет спустя, Кузьма понимал, что иначе пятнадцатилетняя девочка просто погибла бы на больших дорогах – одна, без родни, без мужа, без денег… Ей случайно выпала счастливая карта, выпал шанс оказаться замужем, среди цыган, в Москве, в известном хоре, – и Данка вцепилась в эту возможность мертвой хваткой.
Впрочем, они не прожили вместе и года: Данка ушла в «Яр». Несколько лет она блистала там, собирая своими романсами и пляской пол-Москвы, про Данку даже писали в газетах, поклонники дарили бывшей таборной девчонке бриллианты, купцы-миллионщики предлагали ей содержание, какой-то граф даже собирался на ней жениться. Но Данка лишь смеялась, принимала деньги и подарки, вскоре приобрела собственный дом и зажила барыней. В то время около нее появился Казимир Навроцкий – известный всей Москве карточный шулер. Позже выяснилось, что поляка привлекли не столько красота и голос цыганской артистки, сколько ее деньги и бриллианты. Но тогда казалось, что у Данки все сложилось лучше не надо. Она ушла из «Яра», зажила с Навроцким в своем доме на Воздвиженке, родила двоих детей. А Кузьма…
А Кузьма жил один, отказываясь жениться снова, не давая говорить на эту тему даже Митро – лучшему другу, почти брату. Прожив с Данкой меньше года, уже зная, что она обманула его, он продолжал ее любить. И лез в драку с каждым, кто при нем называл Данку потаскухой. Что они понимали, валенки… Как можно было не любить эту таборную колдунью с никогда не улыбающимися глазами? Кузьма приходил в Петровский парк к «Яру», просиживал там часами в ожидании экипажа бывшей жены, дожидаясь той минуты, когда она в шумящем муаровом платье, в шляпе с вуалью, в перчатках, встречаемая ревом поклонников, быстро выйдет из пролетки и исчезнет в сверкающих дверях ресторана. Ни разу за семнадцать лет Кузьма не подошел к ней. Он понимал, что надеяться ему больше не на что. И жил один, и пил, сперва понемногу, потом запоями, и пропадал в притонах Грачевки и Хитрова рынка, откуда его не раз, площадно ругаясь, притаскивал на себе Митро. Разговаривать о Данке Кузьма не желал ни с кем. Ни с кем, кроме Варьки Смоляковой, тоже овдовевшей к тому времени и временами наезжавшей из табора в Москву…
Дождь за окном припустил сильнее. Свеча, вставленная в узкий зеленый стакан, накренилась, капнула на стол прозрачным воском. Кузьма поправил ее. Вздохнув, подумал: вот бы Варьку сейчас сюда… Она бы и придумала что-нибудь, и Данку бы уговорила лечиться. Кажется, одной Варьке из всего московского хора и нравилась Данка. Во всяком случае, худых слов о своей бывшей жене Кузьма от Варьки не слыхал никогда. Может, потому и мог болтать с ней часами. Кузьма даже улыбнулся, вспомнив, как глубокой ночью, вернувшись с хором из ресторана, они вдвоем усаживались за столом на кухне. Репутация Варьки как вдовы была настолько незыблемой, что даже цыганки не смогли усмотреть в этих их ночных посиделках что-то предосудительное. Да и старше его Варька была лет на пять… Они грели медный самовар, Варька насыпала в чайник собранные во время кочевья сухие травы и ягоды, и по кухне плыл сладковатый аромат. С печи доносились храп старухи Макарьевны, сопение детей. На столе стояли глиняные кружки с отбитыми краями, лежали желтые куски сахара, баранки, изюм. Кузьма полушутливо просил:
– Расскажи про свой табор, Варвара Григорьевна. Вот будет весна – и я туда к вам уеду.
– Что ты там делать будешь, морэ? – в тон интересовалась Варька. – Коней менять-лечить не умеешь, кузнечить не умеешь, корзины плести не умеешь, воровать не умеешь…
– Воровать я умею!
– Угу… Бублики на Сухаревке.
– Ну, тогда я женюсь на таборной! Она будет гадать бегать, а я под кибиткой пузом кверху лежать. Поди, плохо?
Варька кивала, улыбалась. Наверняка понимала, что разговор все равно в конце концов сведется на жену Кузьмы. Знала про Данку она много. Знала даже то, о чем не догадывался никто: то, что, выходя замуж, Данка была чиста.
Когда Варька впервые сказала об этом Кузьме, тот, разумеется, не поверил:
– Так не бывает.
– Бывает. Редко, но бывает. Ты вспомни, морэ, когда ты с ней в первый раз… Ну, когда ты ее своей женой делал… Разве крови не было?
Он молчал, чувствуя, как холодеет спина. Потому что кровь была. Но…
– Но как же, Варька? Господи ты боже мой, да она же… Она мне тогда сказала, что это… что такое у всех женщин бывает… что-то вроде раз в месяц… Дэвлалэ, мне же пятнадцать лет было! Я же не знал ничего! Почему она мне правды не рассказала, почему? Чего боялась?! Я за нее душу черту продал бы, чему угодно бы поверил!
На печи зашевелилась, заворчала старуха, и ему пришлось умолкнуть. Варька горько улыбалась. Тогда она не стала объяснять Кузьме – почему… Он понял сам много лет спустя. Понял, что Данка, выброшенная из семьи, опозоренная, измученная, не успевшая даже оправдаться, уже не верила никому. Не верила и смертельно боялась, что Кузьма, не дослушав, выкинет ее на улицу, и снова – одиночество, нищета, голод, страх, чужие люди… У нее не было больше сил. А он, Кузьма, был тогда просто мальчишкой, ничего не понимавшим в женщинах и принявшим на веру ее слова.
У него была мысль встретиться с Данкой после того ночного разговора, но наутро, подумав, Кузьма снова так и не подошел к ней. Данке тогда было не до первого мужа, она вовсю ссорилась со своим поляком. Они не были обвенчаны, но Данка прожила с Навроцким семь лет и искренне надеялась жить и дальше. Но у Навроцкого были другие планы. Красавец-поляк пользовался бешеным успехом у женщин и, если ему не везло в игре, не стеснялся крутить романы с купеческими вдовами, продолжая при этом брать у Данки деньги, продавая ее драгоценности и неделями не появляясь у нее на Воздвиженке. В конце концов Данка была вынуждена даже заложить дом. Деньги таяли, Данке приходилось прятаться от осаждавших ее ростовщиков и кредиторов и распродавать последние кольца. Тогда она уже была больна, но никто не знал об этом. Никто, кроме Кузьмы, который, дежуря по обыкновению возле ее дома, увидел однажды, как Данка, шатаясь, вышла из экипажа и прислонилась спиной к забору. Ее лицо было белым, на лбу выступил пот. Кузьма никогда не подходил к ней, но на этот раз набрался храбрости.
– Данка, что с тобой? Помочь? Держи руку.
– Ты пьян, пошел вон, – не открывая глаз, сказала она.
Он послушался. И в этот же день запил так, что лишь через две недели Митро сумел отыскать его в каком-то вонючем кабаке на Трубной площади – грязного, заросшего, без копейки денег, без сапог и в чужой рубахе. А когда Кузьма пришел в себя, грянуло новое известие: Данка с детьми уехала из Москвы.
Новости в столице всегда разносились быстро, и уже на другой день после Данкиного отъезда вся Живодерка знала, что случилось. Данке насплетничали об очередной измене Навроцкого, и она приехала прямо в «Яр», где поляк сидел со своей новой пассией. Данка устроила головокружительный скандал, попавший на другой день в газеты. Лишь чудом купеческой вдове Заворотниковой удалось свалиться под стол и тем самым спасти свое лицо от бутылочного осколка, которым взбешенная Данка размахивала перед ее носом. Тем же осколком она собиралась ткнуть в глаз Навроцкому, но не успела, лишившись чувств. Поляк на руках вынес Данку из ресторана, отвез домой, на Воздвиженку, и, едва дождавшись, пока та придет в себя, объявил, что между ними все кончено, что он женится на Заворотниковой и переезжает к ней. Тут же последовала вторая, еще более бурная, часть скандала, Данка перебила и переломала все, что попалось под руку, метнула в окно вслед уходящему Навроцкому чугунную статуэтку, но поляк все-таки ушел. До утра Данка прорыдала, а на следующий день собрала детей, вещи, оставшиеся ценности и укатила в Петербург.
Узнав об этом, Кузьма в тот же вечер объявил Митро, что едет в Питер. Сначала Митро орал благим матом, потом уговаривал, затем снова орал, кроя отборной бранью и «эту шлюху», и «этого дурака»… потом согласился. Наутро Кузьма ушел, и больше на Живодерке его не видели.
Вспоминая свои первые дни в Петербурге, Кузьма невольно передернул плечами. Он приехал туда, совершенно не представляя, где искать Данку с детьми, намереваясь сначала расспросить цыган, а уж затем идти в обход всех гостиниц и ночлежных домов. С цыганами ему сразу же не повезло: никто и слыхом не слыхивал о Данке. На всякий случай он наведался в рестораны, где пели цыганские хоры, в Новую деревню, в «Аркадию», но и там никто ничего не знал. Лишь на десятый день в грязных номерах на Мойке прыщавый половой в не стиранной с Христова пришествия рубахе, почесав подбородок, заявил, что «приехала такая, и с дитями, уж неделю за проживанье и стол не плотют».

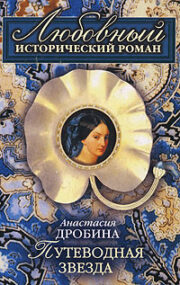
"Путеводная звезда" отзывы
Отзывы читателей о книге "Путеводная звезда". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Путеводная звезда" друзьям в соцсетях.