На этот выговор, сделанный далеко не ласковым тоном, молодая женщина отвечала так же робко и беспомощно, как и тогда, когда мать требовала от нее принять меры против музыкальной «мании» мужа.
— Не сердись на меня, Рейнгольд, — тихо возразила она, — но я не могу… право, не могу иначе.
— Не можешь? — резко спросил Рейнгольд. — Ну да, это твоя постоянная отговорка, когда я прошу о чем-нибудь. Однако сейчас я решительно настаиваю на том, чтобы ты изменила свое отношение к Гуго. Смешно видеть, как ты избегаешь его и упорно молчишь, когда он обращается к тебе. Серьезно прошу тебя подумать о том, чтобы мой брат не находил меня достойным сострадания.
Элла, казалось, хотела ответить, но последняя беспощадная фраза мужа лишила ее дара речи. Она опустила голову и не сделала ни малейшей попытки защищаться. Это движение, полное кроткой покорности, обезоружило бы всякого, но Рейнгольд не обратил на него никакого внимания. Из соседней комнаты донесся голос прощающегося старого бухгалтера:
— Значит, мы можем рассчитывать, что вы вступите в наш клуб, господин капитан, а теперь, когда предстоят выборы нашего президента, вы даете мне слово встать в ряды оппозиции?
— К вашим услугам, — прозвучал ответ Гуго, — само собой разумеется, я примкну к оппозиции. Я считаю своим правилом всегда быть на стороне оппозиции… Это единственная партия, к которой интересно принадлежать. Верьте, вы оказываете мне большую честь.
Бухгалтер ушел, и капитан появился в столовой. Казалось, он намеревался исполнить свое обещание убедить молодую невестку в своих совершенствах и, приблизившись к ней со свойственными ему развязностью и веселостью, хотя и не без доли рыцарской вежливости, произнес:
— Итак, только случаю я обязан удовольствием лицезреть свою любезную невестку, и волей-неволей она должна подарить мне несколько минут. Сами вы, конечно, не предоставите их мне. Сегодня утром я уже жаловался Рейнгольду на ваше пренебрежение, которого, по-моему, я никоим образом не заслужил.
Он хотел было взять руку Элеоноры, чтобы поцеловать, но она решительно отдернула ее:
— Господин капитан!
— Господин капитан? — возмущенно повторил Гуго. — Нет, Элла, это уж слишком! В качестве вашего деверя я имею полное право требовать дружеского «ты», в котором вы не отказывали когда-то своему кузену и другу детства, но так как вы с первой минуты моего пребывания здесь решительно подчеркиваете официальное обращение на «вы», то и я невольно принял ваш тон. Однако я не могу вынести «господина капитана», это оскорбление, и я призываю на помощь Рейнгольда. Пусть он скажет, должен ли я в самом деле спокойно выслушивать обращение «господин капитан» из ваших уст.
— Ни в коем случае! — отозвался Рейнгольд, поворачиваясь к двери. — Элла оставит это обращение и вообще отчужденный тон по отношению к тебе. Я только что настоятельно просил ее об этом.
Он вышел, решительным взглядом приказав молодой женщине остаться, что не укрылось от Гуго.
— Ради Бога, только оставь в стороне свою супружескую власть! Неужели можно приказать быть ласковым? — крикнул он вслед брату, а затем обернулся к Элле и любезно продолжал: — Это было бы вернейшим средством навсегда лишить меня милости в глазах моей прелестной невестки. Однако, не правда ли, мы в этом не сходимся? Позвольте мне, наконец, сложить к вашим ногам должную дань уважения, описать свое радостное настроение, когда я получил известие о…
Тут Гуго вдруг запнулся, как бы потеряв нить своей мысли. Элла подняла глаза и взглянула на него. В ее взоре ясно отразился горький упрек, он прозвучал и в ее голосе, когда она ответила:
— Оставьте по крайней мере меня в покое, господин капитан; я полагаю, что сегодня у вас и так было немало развлечений в этом роде.
— Что вы хотите сказать, Элла? — удивленно спросил Гуго. — Не думаете же вы…
Молодая женщина не дала ему договорить.
— Что мы сделали вам? — продолжала она, и ее дрожавший вначале голос с каждым словом становился заметно тверже. — Что мы сделали вам, что вы с самого дня возвращения сюда поднимаете всех на смех? Разыграв сцену раскаяния перед моими родителями, вы, вероятно, потом немало потешались над ними и с той минуты до сего дня продолжаете издеваться над всеми, сделали весь дом мишенью своих дерзких шуток… Рейнгольд, конечно, терпеливо сносит, что вы изо дня в день унижаете нас, он, наверно, считает это в порядке вещей. Но я, господин капитан, — голос Эллы звучал уже совершенно уверенно, — я нахожу, что вы не вправе осыпать насмешками дом, в котором, несмотря на все прошлое, вас приняли с прежней любовью. Если этот дом и его обитатели кажутся вам смешными и мелочными, то ведь никто и не звал вас сюда. Вам следовало оставаться в тех странах, о которых вы рассказываете так много чудес. Мои родители заслуживают больше снисходительности и уважения даже к своим слабостям, и наш дом, хотя и очень прост, но все же слишком хорош для того, чтобы быть предметом насмешек… искателя приключений.
Не ожидая его возражений, Элла повернулась и вышла из комнаты. Гуго стоял и смотрел ей вслед с таким озадаченным видом, как будто перед ним только что разыграли одну из невероятных сцен его «индийских сказок». Возможно, первый раз в жизни молодой моряк лишился присутствия духа и вместе с тем дара речи.
— Здорово сказано! — пробормотал он наконец, беспомощно опускаясь на стул, но тотчас же вскочил, как от удара электрического тока, и воскликнул: — Ну конечно… у нее те же голубые глаза, что и у ее ребенка! И это я заметил только сегодня, только сейчас! Разумеется, кто бы стал искать их взгляда под безобразным чепцом? «Наш дом слишком хорош для того, чтобы быть предметом насмешек искателя приключений»! Не лестно, но вполне заслуженно, хотя я менее всего ожидал услышать нечто подобное из этих уст. Итак, значит, чтобы увидеть Эллу такой, нужно ее рассердить? Хорошо, попробуем это!
Гуго направился было в гостиную, но приостановился на пороге и еще раз взглянул на дверь, за которой скрылась его невестка. Дерзкое, насмешливое выражение совершенно исчезло с его лица, оно стало задумчивым, когда он тихо произнес:
— Рейнгольду только кажется, что у нее голубые глаза? Непостижимо!
Глава 5
Большой концертный зал в Г. собрал, казалось, все избранное общество города. Это был один из тех благотворительных концертов, которые оно берет под свое покровительство и участвовать в которых считается долгом чести. На сей раз в программах красовались лишь имена знаменитостей, и авторов произведений, и исполнителей; кроме того, благодаря очень высоким ценам на билеты собравшаяся публика принадлежала если не исключительно, то преимущественно к высшему кругу.
Концерт еще не начался, и принимавшие в нем участие артисты находились в соседнем с главным залом помещении, служившем в таких случаях артистической, куда из публики допускались только избранные. Тем сильнее бросалось в глаза присутствие здесь молодого человека, не принадлежавшего, казалось, ни к избранной публике, ни к числу артистов. Он только что вошел и обратился к капельмейстеру, который, видимо, предупрежденный о его приходе, заговорил с ним особенно вежливо.
Стоявшие неподалеку от капельмейстера слышали только, как он выражал сожаление, что не может дать господину Альмбаху никаких объяснений, что это было желанием синьоры Бьянконы, которая, вероятно, скоро сама пожалует.
Кружок артистов, занятых оживленным разговором, мгновенно расступился, когда дверь отворилась и появилась примадонна, которую не ожидали увидеть так рано, поскольку обычно она приезжала в самую последнюю минуту. Все заволновались, все старались перещеголять друг друга в проявлениях внимания к прекрасной коллеге, но сегодня она как будто не замечала поклонения окружающих. Входя в комнату, она окинула ее взглядом и сразу нашла того, кого искала. Небрежно и бегло ответив на приветствия и обменявшись несколькими словами с капельмейстером, артистка сразу положила конец его попыткам продолжить разговор и обратилась к подходившему к ней Рейнгольду Альмбаху.
— Вы все-таки явились, синьор? — с упреком начала она, отойдя с ним в одну из дальних ниш. — Мне не верилось, что вы отзоветесь на мое приглашение.
Рейнгольд поднял на нее глаза, и напускная холодность и отчужденность стали понемногу исчезать, когда он встретился с взглядом итальянки, — в первый раз с того памятного вечера.
— Значит, приглашение шло от вас? — сказал он. — А я и не знал, смею ли считать таким несколько слов, переданных мне капельмейстером от вашего имени, я не получил ни одной строки, написанной вашей рукой.
Беатриче улыбнулась:
— Я только последовала вашему примеру. Я также получила песню, автор которой не прибавил ни слова к своему имени. Я лишь расплачиваюсь той же монетой.
— Разве мое молчание оскорбило вас? — быстро проговорил молодой человек. — Я не смел ничего более прибавить… Да и что мог я вам сказать? — закончил он, потупив взор.
Первый вопрос был совершенно излишним, так как почтительное посвящение песни, видимо, было принято надлежащим образом, и синьора Бьянкона вовсе не имела оскорбленного вида, когда возразила:
— Вы, кажется, любите играть в молчанку и желаете говорить со мной исключительно на языке музыки? Хорошо, подчиняюсь вашему вкусу и буду объясняться с вами также только нашим языком.
Она сделала легкое, но заметное ударение на слове «нашим». Рейнгольд с удивлением взглянул на нее и медленно повторил:
— Нашим языком?
Беатриче вынула из свертка нот, который держала в руках, отдельную тетрадь.
— Я напрасно ждала, что автор песни придет ко мне, чтобы услышать ее в моем исполнении и принять мою благодарность. Он предоставил другим то, что составляло его обязанность. Я привыкла, чтобы ко мне приходили, вы, кажется, претендуете на то же самое?
В ее голосе еще слышался упрек, но он уже не был резок; да это было бы и неуместно, ибо в глазах Рейнгольда ясно читалось, какой дорогой ценой досталась ему его сдержанность. Альмбах ни слова не ответил на ее упрек, не стал защищаться, но его взгляд, словно магнетической силой прикованный к красивому лицу певицы, убедительнее слов говорил, что причиной ее может быть что угодно, только не равнодушие.
— Неужели вы думаете, что я пригласила вас только для того, чтобы вы прослушали арию, которая стоит в программе? — продолжала итальянка. — Публика всегда требует эту арию, но повторять ее очень утомительно, посему я намерена вместо нее спеть что-нибудь другое.
Щеки молодого человека вспыхнули, и он невольно протянул руку за нотной тетрадкой:
— Что вы говорите? Надеюсь, по крайней мере, это не моя песня?
— Как вы испугались, — проговорила артистка, отступая на шаг и отстраняя его руку. — Неужели вы боитесь за судьбу своего произведения в моем исполнении?
— Нет, нет! — с жаром воскликнул он. — Но…
— Но?.. Пожалуйста, без оговорок! Эта песня посвящена мне, предоставлена мне в полное распоряжение, и я могу делать с ней, что хочу. Но еще вопрос: капельмейстер уже приготовился аккомпанировать, мы прорепетировали с ним эту вещь, однако я предпочла бы видеть за роялем вас, когда выступлю перед публикой с вашим произведением. Могу я рассчитывать на это?
— Вы хотите довериться моему искусству аккомпаниатора? — дрогнувшим голосом спросил Рейнгольд. — Безусловно довериться, без единой репетиции? Не будет ли это риском с обеих сторон?
— Если у вас недостанет мужества, то делать нечего, — ответила Беатриче. — Но я уже отлично знаю, как вы прекрасно играете, и нисколько не сомневаюсь, что сумеете аккомпанировать своему собственному произведению. Если вы останетесь самим собой и в присутствии этой публики, как недавно перед тем обществом, то мы, безусловно, исполним песню.
— Я на все рискну, когда вы со мной, — страстно воскликнул Рейнгольд. — Песня была написана только для вас, но если вы хотите дать ей другое назначение, то пусть будет по-вашему! Я готов.
Итальянка ответила только гордой, торжествующей улыбкой, обернулась к подошедшему капельмейстеру, и между ними тремя начался тихий, но оживленный разговор. Остальные мужчины с нескрываемым неудовольствием смотрели на молодого незнакомца, завладевшего исключительным вниманием знаменитой певицы и разговором с ней, который, к их величайшей досаде, задержал ее до самого начала концерта.
Между тем зал наполнялся публикой; ослепительно освещенный, пестрый от роскошных туалетов дам, он представлял блестящее зрелище. Жена консула Эрлау с несколькими другими дамами сидела в первом ряду и была поглощена разговором с доктором Вельдингом, когда к ней подошел муж в сопровождении молодого человека в капитанском мундире.
— Капитан Альмбах, — произнес он, представляя Гуго. — Я обязан ему спасением своего лучшего судна со всем экипажем. Это он подоспел на помощь боровшейся с гибелью «Ганзе» и только благодаря его энергичному самопожертвованию…

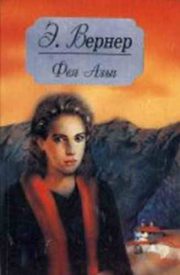
"Развеянные чары" отзывы
Отзывы читателей о книге "Развеянные чары". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Развеянные чары" друзьям в соцсетях.