Госпожа Альмбах, всем сердцем разделявшая убеждения своего мужа, поддерживала его по мере сил, а Элла по обыкновению оставалась совершенно безучастной. От нее не ожидали ни вмешательства, ни помощи; родителям и в голову не приходило, что она может иметь на Рейнгольда хоть какое-нибудь влияние, да и сам Рейнгольд совершенно не замечал ее и, казалось, даже не признавал за ней права иметь личное мнение. Молодая женщина, безусловно, страдала от происходящего, но трудно было понять, чувствовала ли она весь трагизм своей роли, она, жена, на которую обе партии не обращали никакого внимания, игнорируя ее, как будто она была несовершеннолетней. Она проявляла одинаковую терпеливую покорность как во время ожесточенных и бурных споров мужа с родителями, так и при его резких выходках, возникавших теперь по самому ничтожному поводу и направленных большей частью против нее. Редко позволяла она себе сказать умиротворяющее слово, никогда не принимая решительно чью-нибудь сторону и еще пугливее замыкаясь в себе, если та или другая сторона резко отталкивала ее.
Единственный человек, сохранивший со всеми наилучшие отношения и свое положение общего любимца, был, к общему удивлению, молодой капитан. Как все упрямые люди, старик Альмбах легче мирился с совершившимся фактом, чем с раздорами, и скорее способен был простить открытое и спокойное неповиновение своей власти, которое проявил в отношении его старший племянник, чем бурное сопротивление его воле со стороны младшего. Убедившись, что его хотят принудить к ненавистной деятельности, Гуго не спорил с дядей и не оскорблял его, а просто ушел из дома и предоставил буре пронестись за своей спиной. По возвращении он разыграл роль блудного сына, чтобы получить доступ в дом, где жил его брат, и снова приобрести расположение дяди и тетки. У Рейнгольда же не было ни умения, ни желания играть обстоятельствами и извлекать из них пользу. Как прежде он не умел скрывать свое отвращение к торговой деятельности и свое полнейшее равнодушие к мелким мещанским интересам, так и теперь не скрывал своего презрительного отношения к окружающим и своей страстной ненависти к оковам, которые тяготили его, а этого ему, конечно, не могли простить. Гуго, решительно принявший сторону брата, открыто стоял за него при всяком удобном случае. И дядя прощал ему, считая это вполне естественным, потому что благодаря такту капитана дело никогда не доходило до ссоры; между тем стоило только чем-нибудь задеть Рейнгольда, как между ним и его родными разыгрывались ужасные сцены.
Однажды около полудня, придя в дом старого Альмбаха, Гуго встретил на лестнице своего слугу, которого он незадолго перед тем послал с каким-то поручением к брату. Иона только считался матросом на «Эллиде», но уже давно был освобожден от всяких работ и состоял в исключительном распоряжении капитана, с которым не расставался даже во время пребывания на берегу и за которым следовал повсюду, питая к нему неизменную глубокую привязанность.
Оба были почти одних лет. В сущности, Иона был совсем не безобразен, а в праздничном наряде мог даже назваться красивым малым, но его неловкость, резкость и неразговорчивость мешали ему блеснуть своими качествами. Со всем служебным персоналом альмбахского дома, особенно с женской его половиной, он находился во враждебных отношениях, никто из них не видел у него приветливого лица, не слышал от него ни одного слова, кроме самых необходимых. Сегодня он также казался сердитым, и несколько талеров, которые он пересчитывал на ладони, по-видимому, возбуждали в нем негодование, так как он не без злобы посматривал на них.
— В чем дело, Иона? — спросил, подходя, капитан. — Пересчитываешь свои сбережения?
Взглянув на него, матрос вытянулся во фронт, но его лицо не стало приветливее.
— Меня посылают в цветочный магазин за букетом, — проворчал он, пряча деньги в карман.
— Как, тебя и здесь уже посылают за цветами?
— Да, и здесь, — ответил Иона, делая ударение на последнем слове. — Мне не привыкать, — прибавил он, с упреком глядя на своего господина.
— Разумеется, — рассмеялся Гуго. — Но я не привык, чтобы ты исполнял подобные поручения для других. Кто же посылает тебя?
— Господин Рейнгольд, — был лаконичный ответ.
— Мой брат? — медленно повторил Гуго, и по его до тех пор веселому лицу скользнула тень.
— Просто грешно платить за это такие деньги, — ворчливо продолжал матрос. — Господин Рейнгольд не хуже вас умеет швырять деньги на пустяки, которые завтра же придется выбросить. Но мы по крайней мере не женаты, тогда как…
— Без сомнения, букет заказан для моей невестки, — резко оборвал его капитан. — Что же тут удивительного? Неужели ты думаешь, что я не буду дарить цветы моей жене, если я когда-нибудь женюсь?
Последнее замечание, по-видимому, показалось матросу чрезвычайно странным; он выпрямился и посмотрел на капитана с видом полнейшего отчаяния, но через минуту принял прежний вид и уверенно произнес:
— Мы никогда не женимся, господин капитан!
— Я запрещаю тебе подобные пророчества, обрекающие меня на безбрачие, — возразил Гуго. — И почему это «мы никогда не женимся»?
— Потому что мы ни во что не ставим баб, — продолжал стоять на своем Иона.
— У тебя очень странная манера говорить о себе во множественном числе, — насмешливо произнес Гуго. — Итак, я ни во что не ставлю баб? А мне кажется, что ты часто сердился на меня как раз за обратное.
— А до женитьбы дело все-таки не дойдет, — с непоколебимой уверенностью торжественно произнес Иона. — В сущности, мы не особенно дорожим и всем женским сословием. Дальше цветочных подношений и поцелуев ручек дело не заходит, а там мы уходим в море, и делу конец! Да и хорошо, что это так! Если пустить баб на «Эллиду»… Да Боже сохрани!
Эта характеристика, высказанная с абсолютной серьезностью и в неизбежном множественном числе, была, казалось, близка к истине, так как не вызвала со стороны капитана ни слова возражения. Он лишь с улыбкой пожал плечами и, повернувшись к матросу спиной, стал подниматься по лестнице. Рейнгольда он нашел в его собственном помещении в верхнем этаже. Ему достаточно было одного взгляда на лицо брата, быстро ходившего взад и вперед по комнате, чтобы понять, что сегодня опять случилась какая-то неприятность.
— Ты уходишь? — спросил он, обменявшись с Рейнгольдом приветствиями и указывая взором на шляпу и перчатки, лежавшие на столе.
— Не раньше чем через час, — ответил Рейнгольд, овладевая собой. — Ты посидишь у меня?
Оставив без ответа последний вопрос, Гуго остановился перед братом, пытливо глядя на него, и спросил вполголоса:
— Опять была сцена?
На лице Рейнгольда снова появилось выражение мрачного упорства, исчезнувшее было при виде брата.
— Ну разумеется! Опять попробовали обойтись со мной, как со школьником, который, хотя и приготовил все заданные уроки, нуждается в надзоре даже во время рекреации и обязан отдавать отчет в каждом своем поступке. Я дал им ясно понять, что мне надоела эта вечная опека.
Капитан не спросил, из-за чего именно произошла ссора, короткая беседа с Ионой достаточно осветила ему дело.
— Какое несчастье, что ты находишься в полной зависимости от дяди! — произнес он, качая головой. — Если рано или поздно у вас дойдет до разрыва и тебе придется выйти из дела, ты останешься без гроша. Будь ты один, ты мог бы, в крайнем случае просуществовать на доход со своих произведений, но рискнуть содержать на них семью — значит поставить на карту ее будущность. Мне приходилось отстаивать только одного себя, тебе же в силу необходимости придется ждать времени, когда какое-нибудь большое произведение даст тебе возможность вместе с женой и ребенком вырваться из этой мещанской среды.
— Невозможно! — горячо воскликнул Рейнгольд. — До тех пор я успею десять раз погибнуть, а со мной погибнет все, что есть во мне талантливого. Терпеть, ждать, да еще, может быть, целые годы! Это для меня равносильно самоубийству! Мое новое произведение окончено. Если оно будет иметь такой же успех, как и первое, то даст мне возможность провести по крайней мере несколько месяцев в Италии.
Гуго остолбенел:
— Ты хочешь ехать в Италию? Почему же именно туда? — спросил он.
— А куда же иначе? — с нетерпением проговорил Рейнгольд. — Италия — школа всякого искусства и всякого художника. Только там могу я пополнить не от меня зависевшие пробелы своего скудного музыкального образования. Неужели ты этого не понимаешь?
— Нет, — холодно ответил капитан, — я не вижу необходимости начинающему учиться поступать сразу в высшую школу. Учиться ты можешь и здесь, и большинству наших талантов приходилось много работать и бороться, прежде чем Италия, так сказать, благословила их деятельность. Но предположи даже, что тебе удастся привести свой план в исполнение, — что будет в это время с твоей женой и ребенком? Или ты и их собираешься взять с собой?
— Эллу? — презрительно воскликнул молодой человек. — Это было бы лучшим способом окончательно подрезать себе крылья. Неужели ты думаешь, что при первом своем шаге к свободе, я потащу за собой всю тяжесть домашних дрязг?
— Это жестоко, Рейнгольд! — сказал Гуго, нахмурившись.
— Разве я виноват, что наконец осознал истину? — вспылил Рейнгольд. — Моя жена не может подняться выше кухонных и мелких хозяйственных интересов. Я отлично знаю, что она не виновата, но тем не менее в этом — несчастье всей моей жизни.
— Мне кажется, что ограниченность Эллы принята в вашей семье, как непогрешимый догмат, — спокойно возразил капитан, — и ты слепо веришь ему, как и все остальные; а между тем никто из вас не потрудился лично убедиться, действительно ли это такой неоспоримый факт.
Рейнгольд пожал плечами.
— Я думаю, это было бы совершенно бесполезно. Во всяком случае, не может быть и речи о том, чтобы я взял Эллу с собой. До моего возвращения она, разумеется, останется с ребенком в доме своих родителей.
— До твоего возвращения? Ну, а если ты не вернешься?
— То есть как? Что ты хочешь сказать? — воскликнул молодой человек, и лицо его вспыхнуло.
Спокойно скрестив на груди руки, Гуго пристально посмотрел на него.
— Мне кажется, что сейчас ты выступаешь с уже готовым планом, заранее намеченным и обдуманным. Не отрицай, Рейнгольд! Один ты никогда не дошел бы до таких крайних мер в борьбе с дядей, на какие решаешься теперь, не слушая советов и возражений. Здесь чувствуется постороннее влияние. Разве безусловно необходимо, чтобы ты каждый день навещал Бьянкону?
Рейнгольд молча отвернулся, избегая взгляда брата.
— В городе уже говорят об этом, — продолжал тот, — скоро молва дойдет и сюда. Неужели тебе это совершенно безразлично?
— Синьора Бьянкона разучивает мое произведение, — коротко ответил Рейнгольд, — и я вижу в ней только идеальную артистку. Ведь и ты восхищался ею?
— Восхищался, да, по крайней мере вначале, но не мог бы увлечься ею. В прелестной синьоре есть что-то, напоминающее вампира. Я боюсь, что тому, на кого ее глаза устремятся с целью околдовать его, понадобится немалая сила воли, чтобы сохранить свою независимость!
С этими словами он подошел к брату.
Рейнгольд медленно обернулся, посмотрел на него и мрачно спросил:
— Ты сам испытал это?
— Я? Нет! — ответил Гуго своим обычным насмешливым тоном. — К счастью, я не так чувствителен к подобного рода романтическим опасностям, да и, кроме того, достаточно знаком с ними. Назови это легкомыслием, непостоянством, чем хочешь, но женщина не может надолго всецело завладеть мною. У меня, вероятно, недостаточно темперамента для сильной страсти… А в тебе его слишком много, и если ты встретишься с особой, похожей в этом отношении на тебя, то не миновать опасности… Берегись, Рейнгольд!
— Своими словами ты хочешь напомнить мне о моих цепях? — с горечью проговорил Рейнгольд. — Как будто я и без того ежедневно и ежечасно не чувствую их, сознавая в то же время свое бессилие, невозможность их порвать! Если бы я был так же свободен, как ты в то время, когда сбросил с себя здешнее рабство, тогда еще можно было бы все поправить. Но ты прав: меня заблаговременно заковали в оковы, и брачные узы — самый крепкий замок, за которым навсегда заперты все радости свободы… Я только теперь понял это.
Их разговор был прерван слугой, который пришел, чтобы передать какое-то поручение бухгалтера. Наскоро отпустив его, Рейнгольд обратился к брату:
— Мне необходимо зайти на минутку в контору. Ты видишь, я не подвергаюсь опасности погибнуть от чрезмерного романтизма, об этом заботятся наши счетные книги, в которых, вероятно, занесены не в ту графу несколько талеров… До свидания, Гуго!
Он вышел из комнаты, и его брат остался один. Несколько минут он сидел в глубокой задумчивости, и хмурая складка четче обозначилась на его лбу, потом выпрямился, как будто на что-то решившись, и также вышел из комнаты, но не для того, чтобы сойти вниз, к дяде и тетке: он направился в комнату своей невестки.

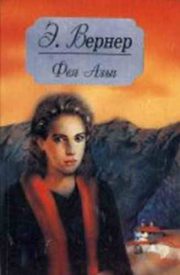
"Развеянные чары" отзывы
Отзывы читателей о книге "Развеянные чары". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Развеянные чары" друзьям в соцсетях.