— «Владельцы: Леопольд Хюбш и сын».
— Верно! И что при этом бросается тебе в глаза?
Я молчала.
— Ты умеешь читать и писать, знаешь французский. Я пытаюсь понять, можешь ли ты еще и думать логически.
Я потупила взгляд и вздохнула. Я уже догадывалась, что за этим последует.
— Не знаешь? Итак, я тебя спрашиваю: видала ли ты где-нибудь в Вене, в Праге, в Крайне, в Ципсе, видала ли ты где-нибудь в Австро-Венгрии хоть одну вывеску с надписью: «Владельцы: Фриц Мюллер и дочь»? Видала? Да или нет?
— Нет, — коротко ответила я.
— А почему нет? Знает ли благородная барышня, почему нет? — Он посмотрел на меня поверх своей повязки, которая радостно задергалась. — Попробуй догадаться, раз ты такая умница-разумница?
Я молчала.
— Нет? Глупая гусыня! Тогда позволь сказать тебе, что такого не бывает. «Фриц Мюллер и дочь» — курам на смех! Такого нет во всем мире. «Фриц Мюллер и сын» — вот как это звучит, так, как и положено. — Он посмотрел на меня пронизывающим взглядом, встал и направился к двери. — Точно так же будет и у нас, — воскликнул он, берясь за ручку двери, — в моем доме. Фабрику получит Альбрехт. А над воротами будет написано: «Владельцы: Рюдигер Хюбш и сын»! Запомни это!
И тут вбежала Эрмина, в своем красном халате, со свечой в руке.
— Сударь! Что вы здесь делаете, ночью? Хотите испугать мою Минку? Я запрещаю вам это!
Отец опустил голову. Он стал вдруг похож на ребенка, которого поймали на воровстве.
— Сожалею, фройляйн фон Фришенбах, — пробормотал он подобострастно и сразу как-то съежился, — вынужденные обстоятельства, гм… выяснилось нечто принципиальное… Больше это не повторится. Целую ручки. Спокойной ночи. Целую ручки. — И отец исчез.
Я была совершенно потрясена. Дело не в фабрике. Производство фесок вовсе не было моим заветным желанием. Речь шла обо мне. «Притягивает к себе любовь, словно магнит?» Иллюзия. Я оказалась существом, никому не нужным, тщеславным и уродливым.
Самое ужасное — я ничего не могла изменить. Как бы я ни пела и ни играла на фортепьяно, как бы хорошо ни училась, какие бы картины ни писала и как бы выразительно ни декламировала наизусть целые театральные пьесы, все равно я никогда не стану сыном, никогда мое имя не будет красоваться на вывеске, и отец никогда не будет гордиться мною.
Всю ночь я размышляла о своей судьбе.
Последнее время отец вечно чем-то озабочен. Он постоянно в разъездах, у него какие-то дела в Леопольд-штадте; вдруг выяснилось, что он потерял очень много денег два года назад, в 1873 году, на Всемирной выставке в Вене. Правда, это случилось не с ним одним. Хотя выставка была великолепна и значительно подняла престиж Австрии, через восемь дней после открытия случился биржевой крах. Затем разразилась холера. Потом настала отвратительная погода, и многие гости не приехали. Девятнадцать миллионов гульденов было вложено во Всемирную выставку, а отдача — только четыре миллиона. Но разве это моя вина? Я не имела к этому никакого отношения. Чего же добивался мой отец? Какие тучи сгущались над моей головой?
На следующий день в двенадцать все стало ясно. Мы с Эрминой в виде исключения обедали не в моей комнате, а сидели за столом вместе с родителями. Мне не пришлось даже стоять, как это полагалось детям. Мне поставили стул, словно взрослой. И это было весьма кстати, иначе я за первым же блюдом (телячий язык в пикантном соусе — от одного вида которого мне становилось дурно) упала бы в обморок.
Будущее рушилось, к моему ужасу, прямо на глазах. Хотя на этот год все было расписано — мне уже шили приданое, а в сентябре должен был состояться мой первый бал (я четыре года брала уроки танцев), отец внезапно распорядился совсем иначе.
— Твоей Минке нужна профессия, — резко заявил он маме, — по зрелом размышлении и точном подсчете выясняется, что я не смогу дать ей приданого. Это… гмм… нанесло бы ущерб фабрике.
Я хорошо помню этот момент. Меня бросало то в жар, то в холод. Никакого приданого? Я не ослышалась? Я стану бесприданницей? Уж лучше умереть от оспы! Не так представляла я себе свое будущее.
Матушка побледнела и, отложив в сторону вилку с ножом, умоляюще взглянула на Эрмину.
— Какую профессию? — спросила она. — Для девушек нашего круга не существует профессий. Я ничего не могу понять, Рюдигер. Я принесла тебе состояние, а ты скупишься? И именно для моего ребенка? Мы так не договаривались, если ты меня правильно понимаешь. Ты нарушаешь слово. Минка воспитана для большого дома. Для образованного мужа. А теперь вдруг какие-то расчеты, выкладки, — и она сама должна зарабатывать на хлеб? Для меня это смертельный позор. Какой стыд! А тебе следовало бы застрелиться! Если ты человек чести.
Эрмина молчала. Отец, пощипывая усы, дождался, когда принесли суп, взялся за ложку и, не глядя на нас, произнес:
— С тех пор как ввели обязательное обучение, потребовались учительницы. Императору нужен образованный народ. Если она станет учительницей, твоя распремудрая дочка, это не будет позором. Ни для тебя, ни для меня, ни для нашего дома. Не так ли, фройляйн фон Фришенбах? Это большая честь. К тому же, она уродлива, разве нет? Ей и с большим приданым не удастся заполучить приличного мужа.
Матушка ударила ладонью по столу.
— Учительницей? — гневно воскликнула она. — Почему бы не сразу монашкой! Ты заблуждаешься, мой милый. Этого не будет никогда! Тогда ей нельзя будет выйти замуж! Ты же знаешь закон! Ни детей, ни семьи, ни своего дома. Я не хочу, чтобы Минка осталась старой девой. И баста! Все, хватит!
— Успокойся, Аманда, — резко осадил отец, — эдак аппетит пропадет! Учительницей она никогда не узнает нужду. У нее будет месячное жалованье. Пенсион! И независимость от кошелька своего брата.
— Но она навсегда лишится радостей жизни. Бог мой! У нее не будет мужа! Ни одного бала! И больше никаких танцев. А она их так любит! Запри ее уж сразу в воспитательный дом.
— Ты хотела бы наказания…
— Я уже наказана. Мерси! Мне даже не дозволяется устроить праздник для своего ребенка, как дебютантки. Я так этому радовалась за много лет вперед!.. Ты наказываешь меня, дорогой мой. Ты просто садист! Эрмина, пожалуйста, скажи свое веское слово. Бедная Минка! Всю жизнь длинные глухие платья… темно-коричневые либо серые. Никаких украшений. Никаких изящных причесок. И никаких поклонников. И самой ей нельзя влюбляться! И это с ее темпераментом!
Отец цинично ухмыльнулся:
— Любовь — занятие для горничных. Девушке из высшего света она не нужна. Влюбляются слуги. Господа — никогда!
Мать вспыхнула, поспешно отпила глоток вина и произнесла, будто ничего не слышала:
— Кроме того, ей придется несколько лет провести в пансионе. Как платной воспитаннице. А это стоит денег!
Пансион? Я прислушалась к разговору. Да ведь Эрмина тоже была в пансионе! И ей там нравилось.
— Пансион обойдется дешевле приданого, — промолвил папа́ и принялся за вторую тарелку супа.
Но мать не сдавалась:
— Минке пятнадцать. А обучение начинают с четырнадцати. Я права, дорогая Эрмина? И берут туда лишь дочерей высшего чиновного сословия. Дети фабрикантов там нежелательны.
Отец скривил рот, словно подавившись. И затем изрек еще циничней:
— Если не ошибаюсь, Аманда, для тебя это не препятствие. У тебя ведь есть нужные связи. Я лишь освежаю воспоминания. Уверен, для твоего вундеркинда сделают исключение!
И тут моя мать притихла. В воздухе повисла тишина. Я же принялась лихорадочно рассуждать. У меня не было ни малейшего желания всю свою жизнь носить темные платья, но еще меньше мне хотелось весь век прозябать в доме отца — нелюбимой, безо всякого приданого и в полной зависимости от него. Все что угодно, только не это. Лучше уж осенью в пансион. А через год-два будет видно.
Я попросила слова.
— Что такое? — с нетерпением воскликнул отец, потому что за столом говорили только взрослые.
— Я охотно стану учительницей, — выпалила я.
— Что?! — уставилась на меня маменька. — Сама не знаешь, что говоришь.
— И все же, мама, дозвольте мне, я с удовольствием пойду в пансион.
— Слышишь, — воскликнул отец, тут же повеселев. — Все улаживается само собой. Только без сантиментов. На твоем месте я сейчас же, без промедления предпринял бы кое-какие шаги. — Он встал, бросив салфетку на стол. — Извините, мне необходимо в Леопольдштадт.
На следующий день Эрмина писала какое-то длинное письмо. И пошла кутерьма, перешептывания… Усердно подслушивая у дверей, я улавливала отдельные слова: «венгерская родня», «готовы помочь», «императрица», «большой талант». Что бы это все значило? Я ничего не понимала. Родственников в Венгрии у нас, вообще-то, не было. Да и талантов у меня никаких, если верить папа́. Но это еще не все: в дом поступали депеши, прибыл какой-то белобрысый профессор, он написал с меня портрет, который тотчас был куда-то отослан, — я так ни разу его и не видела. Явилась домашняя портниха и сшила мне платье из светло-голубого тонкого репса. К нему была куплена серая муфта из мягкого кротового меха. Да, письмо это стало загадкой номер пять.
И вот однажды в пасмурный зимний день за мной приехали. В блестящем темно-красном новехоньком экипаже, запряженном парой белых лошадок. Вид у них был сытый и довольный, в гривы вплетены красные ленты, красные попоны покрывали их спины, на морозе от них шел пар.
На кучере был серый полушубок из каракуля, с широким и длинным — по локоть — воротником. Эрмина поехала со мной, это я точно помню.
Закутавшись в мягкие дорожные пледы, мы отправились на юг, в заснеженный Хинтербрюль, и оказались вскоре в красивом, хорошо натопленном доме, где отобедали. А я должна была еще и спеть, сыграть на фортепьяно и продекламировать стихотворение. Меня очень хвалили.
Я сидела за фортепьяно, когда ко мне подошел молодой человек — я едва поверила своим глазам — и мило похвалил мой голос. Юноша был на несколько лет старше, чем я, и, казалось, совсем не замечал, что я уродина. Он был невысок, но широкоплеч, с темными, по-военному коротко стриженными волосами и удивительными глазами, синими, как васильки, в обрамлении черных ресниц. Таких красивых глаз я еще никогда не видала, и меня просто покорил его открытый приветливый взгляд.
— Вы позволите, милостивая фройляйн? — он подал мне руку и отвел на мое место. Потом принес кусок торта, белого с марципановой глазурью. Поверх глазури красовалась большая засахаренная вишня с фисташкой внутри. Ничего вкуснее я в жизни своей не ела, смаковала каждый кусочек.
А потом случилось еще кое-что.
Все это время два элегантных пожилых господина играли в соседней комнате в шахматы. Я видела их из-за фортепьяно через отворенную дверь, а они видели меня. Позже, когда мы стояли в парке под заснеженными деревьями и уже прощались, тот, который был старше, неожиданно подошел к нам. Он был седой, как лунь, с густой шевелюрой и невероятно живыми черными глазами. Как я потом узнала, ему было далеко за восемьдесят, но держался он прямо, с офицерской выправкой. Тотчас к нему поспешил слуга и набросил на плечи длинную, до самой земли, меховую накидку.
— Спасибо, Йошка, — произнес он низким голосом, который мне понравился. Потом долго с улыбкой смотрел на меня. — И как живется маленькой мадемуазель на белом свете? — спросил он по-французски.
— Хорошо, сударь, спасибо, — я сделала глубокий книксен.
— Очень рад. Мадемуазель чудесно пела и играла на фортепьяно. К тому же, она принесла мне удачу. Я выиграл все партии. — Он полез в карман и положил мне в ладошку что-то холодное. — Это вам. Ваша доля в моем выигрыше.
Это был золотой! Драгоценный подарок.
— За нее не придется краснеть, — сказал он Эрмине, которая, очень взволнованная, стояла рядом. — У нее есть характер и есть талант, настоящий маленький чертенок. Я с удовольствием увижусь с ней вновь. Позаботьтесь об этом.
Он стоял на снегу и махал рукой. Мы тоже махали ему в ответ из нашего экипажа, пока он не исчез из виду.
Всю обратную дорогу в Вену Эрмина крепко прижимала меня к себе. Она осталась очень довольна мною, это видно было по ее глазам. Но кто был этот господин? Лишь после того как я в пятый раз задала ей этот вопрос, она ответствовала:
— Граф Шандор. Он обязательно что-нибудь сделает для тебя.
— А кто такой граф Шандор? Откуда вы его знаете? И почему он станет для меня что-то делать? Когда мы снова его увидим?
Но она лишь смеялась в ответ. Да, граф Шандор. Он был загадкой номер шесть.
В самом деле, две недели спустя специальный курьер доставил нам запечатанный конверт из канцелярии венского Хофбурга. В нем было приглашение в Иозефштадт на приемные экзамены в знаменитый кайзеровский пансион для девушек, который готовил учительниц для всей монархии. На шапке письма стоял габсбургский герб. Ведь пансион учрежден кайзером, а почетный патронаж осуществляла эрцгерцогиня. Экзамен должен был длиться неделю. Важнейшие предметы — немецкий и музыка.

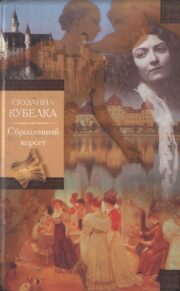
"Сброшенный корсет" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сброшенный корсет". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сброшенный корсет" друзьям в соцсетях.