Нет, этого обыкновенно не имеют в виду в светском воспитании, в развитии дочерей и девушек тех семейств, которые живут и вращаются в мелочах и суетах не общественной, а общепринятой светской жизни! Но зато обычай, тон, приличие, все условное, все принятое имеют между ними силу закона и до известной степени, покуда… до слишком потрясающего столкновения женщины с искушениями и трудностями жизни, заменяют ей все то, что не дало ей ложно направленное ее воспитание, все то, чего недостает в ее уме, в ее душе для защиты и ограждения ее. В мирном и великолепном доме своих родителей, окруженных людьми лучшего круга и лучшего образования, Марина с малолетства слышала разговоры, где перебиралось все то, что можно, все то, что не дозволено по светскому уставу и светским понятиям. При ней, десятилетней девочке, рассуждали о личностях того круга, обсуживали их, выхваляя одних, укоряя других. Она знала, какое строгое соблюдение всего принятого требуется от женщины, знала, не понимая вполне их смысла, но пораженная иными словами и речами; она слышала укоры каким-то слабостям, каким-то отступлениям, прославление какой-то непорочности, неприкосновенности и какого-то гордого достоинства, которые представлялись ей ореолом, окружающим даму, всеми превозносимую. Она приучалась полагать все заслуги и совершенства женщины в исполнении малейших и неуловимейших предписаний учтивости, скромности, этикета и обычая: нельзя, не принято, и проч., и проч… Азиатские народы, эти умные консерваторы, над которыми мы бессознательно и неразумно смеемся, не поняв до сих пор, что они, дошедши — остановились, и достигнув относительной образованности — врезались в нее, как мозаичные узоры в вечном камне, их предохраняющем, — китайцы, понимая и зная натуру своих женщин и боясь не уметь обуздать их, вздумали назвать красотою недоразвитие женских ног — и придумали целую систему отвратительных мер и жестоких мучений, чтобы умалить, изуродовать эти бедные ноги и тем приковать, вернее и прочнее, чем цепями, целые поколения хромых жен к их домашней, безвыходной, недвижной жизни. У нас, европейцев, не ноги с детства умалены и стеснены в неумолимых колодках, а умы женщин и понятия их вырабатываются и ограниваются по известной форме, упрочивающей потом на всю жизнь недвижимость моральную и заключение души в пределах, ей назначенных. Оно вернее!.. И подобно тому, как китайцы пеленают пальчики ног у девушек, а черкесы зашивают грудь малолетних дочерей своих в жесткую и узкую кашубу (кожа, которая никогда не снимается, не перешивается и не приспособляется к росту девушек, давит им грудь и мешает плечам развернуться, а лишь в день брака распарывается на них кинжалом мужа), так просвещенные народы употребляют мало-помалу составленный кодекс утеснительных понятий и условий, который и раздается преимущественно женщинам высшего круга и, если он принят и соблюден в точности, приготавливает их как нельзя лучше к искусственной, мелкой, условной жизни, им предназначенной. И почему бы не так? Ведь растут же цветы в оранжереях и живут птицы в клетках!.. Конечно, никогда бедное, тощее растение в теплицах и парниках не получит той мощной красоты, той дикой, роскошной свежести, того сильного аромата, которые принадлежат исключительно творениям Создателя и природы, расцветшим свободно и произвольно на родной почве, под небом и воздухом, им свойственным; конечно, никогда бледная канарейка или слепой соловей, вскармливаемые в клетках, для удовольствия хозяев, не поют так весело и громко, не полетят так живо и стремительно, как вольные птички Божии в лесах… но те и другие украшают жилища наши, одни наслаждают наш взор своими яркими красками и ласкают обоняние наше своим душистым дыханием — другие тешат наш слух своим пением, забавляют прихоть нашу, чего же больше?.. А что они достигли или нет своего полного развития, проявления всех своих сил и свойств, данных им матерью природой и неистощимою щедростью Творца, что нам за дело? Не все ли нам равно?.. И если вместо женщины, твари разумной, одаренной бессмертной, всеобъемлющей душою, любящим сердцем и светлым умом, из тепличек и клеток домашнего воспитания выходит часто безмозглая кукла, способная только наряжаться и отмалчиваться на все вопросы жизни, — что же за беда?.. Ведь иногда кукла безвреднее и особенно сподручнее женщины; кукла не имеет ни личного мнения, ни слишком больших требований; кукла везде поместится, не стесняя никого, а женщина, пожалуй, могла бы… Да что тут долго спрашивать! Многие поймут и оценят все отрицательные достоинства и преимущества куклы пред женщиной! Оттого-то кукле так все и удается в свете и на свете!..
Марина была не кукла, и потому ей не все удавалось! Лишившись матери на осьмнадцатом году своем, она осталась скорей заботой, чем отрадой на руках отца, обремененного и без того службой и делами, и была поручена дома надзору гувернантки, а вне дома и при редких девических выездах — покровительству двух теток, из которых одна была двоюродная, стало быть, мало в ней принимала участия, а другая, сама еще прехорошенькая и довольно молодая, занималась гораздо более собою, нежели племянницею. Утром отец приходил пить чай к дочери, много ее ласкал, расспрашивал о вчерашних выездах и занятиях, о том, что могло ей быть нужно или приятно, исполнял все ее требования и даже прихоти, крестил, целовал (он был очень нежный отец) и уезжал на весь день. Обедывал он с нею вообще, когда был дома и не имел гостей; но правда, что раз пять в неделю он или был отозван, или сам должен был принимать друзей и сослуживцев своих, а потом нельзя же было и ему не побывать в клубе или в ресторанах, прославленных гастрономическим искусством! Итак, Марина знала, что у нее есть отец, который ее любит, подобно тому, как каждый из нас мог бы знать, что у него есть своя звезда, хранительница и сопутственница, данная роком, — но почти не видела этого отца, как все мы не можем видеть своей звезды. Марина имела полный досуг, была предоставлена самой себе в эти самые опасные и самые знаменательные годы жизни, где человек знакомится прежде с самим собой, потом со всем, что может привлекать его внимание и порождать его участие. Гувернантка, женщина добрая, тихая, накопляющая последний десяток заранее назначенного ею количества тысяч русских рублей, чтоб разменять их на французские франки и удалиться с ними на покой в свой родимый городок на берегах Луары, — гувернантка очень заботилась о своей питомице, то есть спрашивала, хорошо ли она спала, оделась ли довольно тепло в ненастную погоду, — и только! Да больше от нее, правда, и не требовалось. Марина ведь кончила свое воспитание с учителями и ей оставалось только ожидать условного возраста и окончания годичного траура, чтоб явиться формально в свете. Наставница шила и перешивала свои чепцы, считала и пересчитывала свои будущие доходы, по вечерам вязала или делала филе, но все это в одной комнате с Мариною и не спуская глаз с нее. А Марина думала и мечтала!..
Лермонтов рассказал нам своими звучными, музыкальными стихами, как Демон воспитывал княжну в старинном доме и пустом зале ее знатных предков. Смерть, пресекшая скитальческую, неудовлетворенную, тревожную жизнь его, и заодно обаятельную, прелестную Сказку для детей, лучшее его произведение в артистическом отношении, эскиз художника, обещавший мастерскую картину, смерть не дала ему докончить рассказ и показать мораль, то есть вывод и заключение такого воспитания. Но по тому обстоятельству, что его демон выбрал зеркало в подмогу и способ своего преподавания, можно заключить, что он был дух суетности и тщеславия, питатель женских прихотей и женского самолюбия, и что княжна должна была выйти из его школы отличною кокеткой, посвященной во все таинства науки света и общежития. Есть и другие демоны, которым обстоятельства часто дозволяют вмешиваться в дела, худо веденные человеком, и между прочим в воспитание детей, брошенных им на произвол. Например, демон любознания, или еще лукавый, сладкогласный, медоточивый демон несбыточных надежд и тревожных ожиданий, который лучше и вернее всех прочих знает дорогу к девичьему сердцу, который вкрадчивее других и вместе всех других опаснее, потому что он обращается не к дурным, а к лучшим потребностям и качествам юных организаций, им приготавливаемых к горю и страданию. Этот демон не с зеркалом и не с наущениями лести и кокетства приступает к своим слушательницам, — нет! он говорит им о лучших порывах и чистейших чувствах сердца; он открывает им, что есть, что должно быть в жизни высокое, полное счастие, совершенство и исполнение всего, чего можно желать в мире; он показывает им книги, где находится быль всех любивших и всех страдавших на земле, — и говорит им: «Вот что есть жизнь!» — Книги, да, книги! От них зависит часто или почти всегда не только судьба женщин, но и внутреннее их направление, характер их, образ мыслей, все, что довершает или даже составляет женщину. Есть у многих народов одна и та же пословица: «Скажи мне, с кем водишься, я скажу тебе, кто ты». А мы говорим: «Скажи мне, что ты читаешь, назови свою любимую книгу, — и мы тебе скажем, что ты за человек и каковы твой ум, твое сердце, твои наклонности!»
Да, по книгам можно и должно судить о читателе. И потому мне всегда дико, жалко и больно, когда я вижу молодых женщин нашего времени, читающих усердно и жадно — Поль де Кока! И только одного Поль де Кока, или, пожалуй, еще бойкие вымыслы Евгения Сю, Сулье, молодого Дюма, всей этой школы гуляк-весельчаков, да Диккенса — этого представителя реализма, то есть осуществления в лицах всех пошлостей и ничтожностей дюжинного человека — Диккенса, талантливого и добросовестного, но заблуждающегося коновода целых сотен бездарных производителей так называемой новейшей мещанской (bourgeoise) литературы, — литературы, имеющей целью не возвышать мысль и не воспламенять душу к служению высокому и прекрасному, а единственно выводить под самыми яркими красками все обыденное, всякому понятное и знакомое.
По несчастью, это противоэстетическое направление достигло теперь величайшего развития и, как зараза, овладело вкусом нового поколения. Но каково же слышать похвалы ему между женщинами, прежде стражами божественного огня поэзии и красоты! Это производит такое же впечатление, как вид молодой, прелестной девушки, срисовывающей, потупя глазки, с примерною рачительностью и тщательностью Поль-Поттерову корову. Вообще, положительность и натуральность мне кажутся не принадлежностью женщины, и я с уважением вспоминаю о матерях и тетках нашего столь положительного и столь натурального поколения, которые в свои младые годы срисовывали эскизы и этюды по Рафаэлю и читали Шатобриана, Шиллера, Жан-Поля, пожалуй и M-me Cottin и M-me de Genlis и Мисс Джэн Портер, от которых не приходилось краснеть их щечкам, ни запятнаться их воображению; тогда, как величайшим отступлением от принятых правил, как грех против нравственности, почиталось прочесть Новую Элоизу, и девушки не смели в том признаться ни подругам своим, ни женихам. Недалеко время, когда тайком переписывали и декламировали Торе от ума, почитаемое чуть ли не безнравственностью, за первую сцену, где Софья Павловна и Молчалин ночью разыгрывают серенады на фортепьянах и флейте. С тех пор нас ко многому приучили и мы обстреляны, как усачи!..
Да, тогда выучивали наизусть Расина, Жуковского, Millevois и Батюшкова. Тогдашние женщины не нынешним чета! Они мечтали, они плакали, они переносились юным и страстным воображением на место юных и страстных героинь тех устаревших книг; это все, может быть, очень смешно и слишком сентиментально по-теперешнему, но зато вспомните, что то поколение мечтательниц дало нам Татьяну, восхитительную Татьяну Пушкина, милый, благородный, прелестный тип девушки тогдашнего времени, — а нынешние, а любительницы Поль де Кока и Евгения Сю, а барышни наши, которые с 16-ти лет напевают Беранже, выученного наизусть тайком от маменек и наставниц, у которых они их крадут, что они дадут поэзии?., что они обещают жизни?.. Жалких списков с плохих оригиналов, как говорил Грибоедов, во время которого, впрочем, знали только гризеток, а не новейший тип отчаянных и разбубенных femmes-viveurs!.. [1] Мечтательницы, отжив свою молодость, оставались и остаются еще теперь образованы, женственны, готовы понимать все высокое и любить все прекрасное; они воспитывают своих дочерей в строгом соблюдении собственного достоинства и внутреннего и наружного; они проповедуют им, иногда неловко, но всегда с хорошею целью, о приличии и добродетели, так нагло осмеянных модною безнравственностью, и хоть словами отстаивают чувство и назначение женщины. А приверженницы естественности и правды, открытых мещанскою литературою, начитавшись и насмотревшись вдоволь забавных биографий гризеток, лореток, львиц и тому подобных разных пародий на женский пол, они слишком часто принимают мнения и правила своих героинь, они привыкают смотреть на жизнь с их веселой и разгульной точки зрения, из шутки и шалости сначала, а потом по привычке и склонности, подражают их обычаю, выучиваются курить, тянуть шампанское не хуже удалых гусаров, и стараются осуществить на деле и перенести из книг в действительность сцены и быт, знакомые им по модным romans de moeurs[2]. Не лучше ли плакать над смертью Аталы и над судьбой Теклы Валленштейн, чем гоняться за похождениями, наружностью и нравами Rose Pompon и Lizine?.. (Здесь не упоминается о новейших романах русской литературы потому, что хотя они водятся, как говорят, в каких-то журналах, но дамы и девушки высшего сословия их не читают)[3].

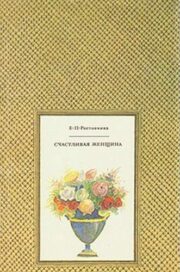
"Счастливая женщина" отзывы
Отзывы читателей о книге "Счастливая женщина". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Счастливая женщина" друзьям в соцсетях.