Дождь не мешал мне. Сбегая вниз по извилистой улочке, я впервые за последний месяц не чувствовала на себе пристрастных взглядов фешенебельной публики. Какая‑то женщина, закутанная в широкий платок, поднималась навстречу мне с корзиной, полной свежей рыбы. Мальчик на велосипеде разбрасывал газеты, завернутые в полиэтилен, у ворот домов. Мне приятно было чувствовать себя богато и со вкусом одетой, а еще приятней было то, что Амедео не участвовал в моем сегодняшнем «одевании».
Спустившись вниз, я, сама не знаю как, забыла, зачем шла, и стала бродить по улицам и площадям, любуясь Римом, который я видела до сих пор только из окна.
И лишь проголодавшись и уже собираясь перекусить в попавшейся мне на пути траттории, я вспомнила об Амедео, села в трамвай и вернулась на виа Аркимеде.
Амедео завтракал, сидя в постели. Трясясь в звонком трамвае, я боялась, что, может быть, он уже отправился меня искать. Или волнуется, не зная, что и думать. Но ничего подобного я не заметила. Увидев меня, он молча продолжал завтрак. И лишь закончив его и бросив на поднос скомканную салфетку, Амедео встал, снял с моей головы шляпку и, бережно держа ее на ладони, стал смахивать с нее еще не успевшие впитаться дождинки. Потом, повернувшись ко мне спиной, он аккуратно пристроил шляпку на специальную подставку, помогающую сохранить форму при перевозке, и наконец, оставив ее сушиться на подоконнике, повернулся ко мне. Прошло столько лет, но я до сих пор помню выражение его лица и тон, которым он сказал мне тогда: «Ты думала, что делаешь? То, что ты неизвестно где на себе таскала, стоит целого состояния — большего, чем есть у твоего отца. Ты больше никогда ничего не наденешь без моего ведома! А если тебе хочется гулять, то ходи в том, в чем ходила ко мне работать».
В тот же день мы уехали из Рима.
Всю дорогу я пыталась простить ему происшедшее, списывая все на его вспыльчивость. Он, как ни в чем не бывало, был весел и предупредителен со мною, но я никак не могла отделаться от мысли, что он любуется не мной, а дорожным костюмом, который придумал специально для нашего свадебного путешествия.
В Неаполе оказалось, что дом уже обставлен по последней моде. Даже будуар и моя спальня уже имели законченный и весьма изысканный вид, но… Я‑то мечтала устроить их совсем по‑другому.
…И потянулись однообразные зимние дни.
Амедео продолжал писать меня в своей излюбленной манере и вскоре открыл выставку, назвав ее «Фаустина».
Я блистала на вернисаже, переходя из зала в зал в уже привычно оригинальном для меня костюме, в окружении благосклонных критиков и многочисленных поклонников Амедео. А со стен глядело на меня мое тело — будто проданное этой толпе зевак и ценителей, торопливо и щедро раскошеливающихся при виде автографа Амедео и растаскивающих по домам мои обнаженные портреты под общим названием «Фаустина».
Та первая, римская, трещина в наших отношениях разрасталась. Конечно, я не перечила Амедео и бывала с ним везде, где он считал нужным меня показать и в каком угодно наряде. Но освободившись, я почти пряталась от него, уединившись где‑нибудь в своей части дома.
Сначала он пытался заявлять свои права на всю мою жизнь, но вскоре понял бесполезность этих попыток и довольствовался теперь нашей телесной близостью и своим видимым превосходством на публике.
Кроме того, я продолжала быть безмолвной и послушной натурщицей, и если в его работе уже не было того вдохновения, с которым он писал меня во время нашего долгого путешествия, то это компенсировалось для него приятными воспоминаниями и ощущением того, что он все‑таки владеет мною.
И он действительно владел мною — так порой казалось и мне. И тогда я впадала в отчаяние, насколько глубокое, настолько и незаметное для окружающих.
Но однажды посторонний взгляд все же коснулся моей души и заставил ее трепетно отозваться.
Праздновали день рождения Амедео.
С раннего утра наш дом лихорадило: слуги, запасы, заказы, столы, приглашения, бесконечные звонки, телеграммы. В чаду забот я встретила гостей, и в мельтешении едва знакомых мне лиц, улыбок, проплывающих в дымке сигарного дыма мимо меня, под аккомпанемент хрустального звона бокалов и шелест извлекаемых из помпезных коконов подарков прошел весь день.
Вечером же я облегченно вздохнула: мы с гостями отправлялись на заранее подготовленный Амедео огромный катер, чтобы, выйдя на нем в ночное море, закончить гулянье праздничным фейерверком. Здесь мне уже не надо было выступать в роли хозяйки, и я, отойдя на второй план, немного расслабилась.
Амедео был увлечен предстоящим фейерверком — пиротехника входила в число его капризных пристрастий, наряду с устройством карнавалов, морской рыбалкой и заботами всеми признанного кутюрье, — и тоже оставил меня в покое. Пока гости выходили из дома и собирались на набережной, я успела сильно замерзнуть в своем огненно‑алом, как поле маков, платье из тщательно продуманных, но в нарочитом беспорядке собранных лоскутов — это был последний наряд, в который Амедео собственноручно облачил меня перед вечерним коктейлем. В нем я и отправилась в море, успев лишь накинуть сверху широкое пончо. Переодевшись в нашей каюте в удобное шерстяное платье, гетры и низкие туфли — все это я заранее приготовила там, зная нрав Амедео, — я прошла в кают‑компанию, оформленную в стиле прибрежной таверны, и, усевшись за грубо сколоченный стол, заказала немного рому, чтобы согреться и унять все еще колотившую меня дрожь.
Мне принесли что‑то испанское — кажется, касалью, — и первый же глоток этого огненного напитка, горького, как олеандр, обжег мне горло. Но душа моя, уставшая от бесконечной суматохи этого длинного дня, вдруг лишилась защитной коросты. Мне стало так одиноко на этом переполненном людьми корабле… Мое тело согрелось, но внутри меня будто текла холодная река одиночества.
До сих пор я помню в мельчайших подробностях то, что произошло потом. Я вдруг почувствовала на своей руке чье‑то дыхание, и поцелуй, горячий, как прибрежный песок в знойный день, обжег мою кисть. Я вздрогнула, но руки не отдернула. Из полутьмы этой выдуманной Амедео таверны на меня смотрели глаза, показавшиеся мне такими же горячими, как и губы. Это был первый человеческий взгляд за весь день, обращенный на меня. Все остальные гости Амедео, включая его самого, смотрели будто сквозь меня, или же взгляд их застревал на моих причудливых оболочках, и от этого я действительно начинала чувствовать себя манекеном — те болтливые слуги, так разозлившие меня в Венеции, оказались правы!
Незнакомец, словно нашедший меня посреди ночного моря, которое ярко вспыхивало причудливыми фейерверками за стенами кают‑компании, стал моим вторым мужем чуть позже. Но единственная в моей жизни большая любовь родилась в тот самый миг, когда я, еще даже не видя его лица, ощутила огромность тепла, исходящего от этого высокого, большого человека с лицом, похожим на критскую маску. Я не смогу сейчас точно сказать, но хочу, чтобы ты поняла, что я почувствовала тогда. Та река, что так безысходно несла внутри меня холод, вдруг исчезла. И я, не задумываясь, пошла за незнакомцем, когда он, чуть потянув меня за руку, встал из‑за стола.
В шуме разрывающихся шутих и треске бешено крутящихся фейерверков мы, никем не замеченные, отыскали шлюпку. Он умело спустил ее на воду, спрыгнул вниз и помог сойти мне.
Дальнейшее было похоже на наваждение. Долго ли мы плыли — не помню. Внутри у меня все радостно замирало от таинственной опасности происходящего. Будь я взрослее — этого и ничего последующего никогда не случилось бы, но в юности скудный жизненный опыт позволяет поступкам быть авантюрно‑воздушными, безрассудными.
Не думая об опасностях, подстерегающих юную неопытную женщину на каждом шагу, я доверила свою заблудившуюся жизнь этому незнакомцу — и до сих пор не жалею об этом.
Он не причинил мне зла. Тот, чьего имени я так и не узнала в ту ночь, похитил меня лишь затем, чтобы устроить праздник в честь меня одной. Оказавшись на берегу, мы добрались до одного из небольших ресторанов, рассыпанных по всему побережью. Этот был почти пуст.
Для нас двоих зажглись свечи, вышли в зал музыканты — и, выпив подогретого пряного вина, мы танцевали… За все это время он не сказал мне ни слова — лишь неотрывно смотрел мне в глаза. Но каждый шаг, поворот, кружение этого бесконечного танца делали нас ближе друг другу. То, с какой страстной бережностью он вел меня в танго, кружил в чуть ленивом ночном вальсе, говорило мне больше, чем все слова, нашептанные Амедео за стремительно пролетевший месяц нашей близости.
Я уже перестала удивляться таинственной безмолвности незнакомца — она завораживала меня, впрочем, как и все в эту чудную ночь. Вскоре мы вернулись назад — так же незаметно, как и сбежали. Веселье на катере несколько поутихло, но не настолько, чтобы наше отсутствие кто‑нибудь заметил. Мы расстались на палубе: я спустилась в каюту, он просто скрылся в ночном сумраке, крепко сжав на прощание мою руку. В ту ночь мы больше не виделись. Но я так и не смогла уснуть до утра.
Не помню, как мы вернулись домой, что было потом… Кажется, к обеду я заснула и проспала до следующего утра.
Проснулась же оттого, что услышала голос прислуги, разговаривающей с почтальоном. Сама не знаю почему, но я тут же встала и, накинув Длинный соде‑ли,[1] сбежала вниз. Среди журналов, приглашений и газет, внесенных горничной в переднюю, я обнаружила небольшой конверт, запечатанный красным сургучом.
…Фаустина, впервые прервав свой рассказ, встала и вскоре принесла из своей комнаты тот самый конверт и протянула его изумленной Божене. Та, все еще находясь под гипнозом повествования, недоверчиво вертела его в руках.
— А ты, верно, решила, что все это рождественская сказка? — Фаустина рассмеялась.
Потом она вновь закурила и, помолчав, добавила:
— Это было письмо от Филиппо, моего спутника с той самой ночи и до сих пор. У меня с собой много писем и записок от него, а еще больше их — в нашем небольшом доме недалеко от Неаполя, в котором мы прожили вместе почти двадцать лет.
Фаустина на мгновение отвернулась.
— Все эти годы я будто читаю длинную книгу о любви — и в его глазах, и в его бесконечном письме, адресованном мне. А у тебя в руках ее начало.
И Божена, бережно достав письмо, прочла всего несколько строк:
«Даже если бы я обладал счастливой способностью, свойственной всем людям, вчера в Вашем присутствии я не смог бы вымолвить ни слова.
Хочу услышать Ваш голос».
— Вечером того же дня, — продолжила свой рассказ Фаустина, — какой‑то мальчик принес мне большую корзину янтарного винограда, в которой я нашла свернутую трубочкой записку: «Я хочу похитить Вас еще раз. Согласны?»
Сейчас мне кажется, что тогда я нисколько не мучилась с ответом. Не знаю, может, так оно и было.
Но шли дни, а незнакомец молчал… Ожидание становилось невыносимым, и однажды я, попытавшись описать Амедео человека, имени которого не знала, спросила его: кто это?
Оказалось, что человека, который так стремительно вошел в мою жизнь — а я уже чувствовала, что это случилось, — зовут Филиппо. Вот уже несколько лет, как он, сбежав из города, живет в провинции и занимается виноделием. «Живет у себя на холме, словно монах, — сказал Амедео. — А может быть, так ему и лучше… Филиппо ведь — нем».
Потом Амедео заговорил о чем‑то другом, но заметив, что я не слушаю его, решил использовать мое настроение и, продолжая говорить, подошел ко мне и стал неторопливо расстегивать мой пеньюар. Предстоящее переодевание — на этот раз у него в руках было что‑то серебристо‑розовое, полупрозрачное — уже начало возбуждать Амедео, его прикосновения становились все настойчивей… Но когда его губы потянулись к моим, я вырвалась и, сказав, что сегодня не буду позировать, убежала к себе.
А через час нашла его в столовой и объявила, что ухожу от него к Филиппо.
Разумеется, Амедео не поверил мне и, ответив, что я становлюсь слишком капризной, шутя пригрозил действительно отправить меня в подарок Филиппо: «Будешь подвязывать лозы и месить виноград босыми ногами — пожалуй, тебе это больше подходит!»
Думаю, потом он долго вспоминал эту свою шутку.
Не желая больше слушать меня, Амедео отправился играть в бридж, а я, отыскав в его гостевой книге адрес Филиппо, — на вокзал.
И можешь мне поверить, я никогда не пожалела о том, что сделала в тот вечер.
Когда я постучалась ночью в дом Филиппо — я чудом нашла его, не заблудившись среди бесконечных виноградников, — мне не нужны были никакие слова, чтобы понять, как он ждал встречи со мной…
Божена встала и с глазами, полными слез, обняла Фаустину.

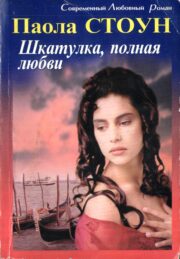
"Шкатулка, полная любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Шкатулка, полная любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Шкатулка, полная любви" друзьям в соцсетях.