Тогда Фаний позвал нескольких мореходов на помощь, и те оттащили в сторону мертвецки спящего Терона. Однако, оглядев при свете факелов почти бездыханную Доркион, Фаний только головой покачал, решив, что зря потратил свои деньги и девушка все равно умрет.
Однако она не умерла…
— Доркион, ты что, уснула?! — послышался гневный оклик, и девушка очнулась.
Ах да, у нее чуть поник локоть, и пальцы стали вялыми. Апеллес одержим страстью запечатлевать движение так, чтобы оно как бы продолжалось перед глазами зрителя, и при этом бывает очень строг, когда Доркион не соблюдает предписанную им позу. Иногда ее так и подмывало подсказать, что если бы он рисовал ее танцующей, а не замершей в избранной им позе, ему удалось бы добиться большей порывистости и живости, — но разве она посмела бы сказать хоть слово? Это любимец славы не выносит ни малейшего возражения и запросто может обрушиться не только с бранью, но и с кулаками на чрезмерно осмелевшую наложницу, как на любого святотатца.
Всем Афинам была памятна недавняя шумная сцена, когда великий художник побил одного знаменитого башмачника, которому заказывали сандалии самые именитые горожане. Башмачник явился полюбоваться новой тихографией Апеллеса, но уставился прежде всего, конечно, на то, что его больше всего интересует: на обувь. Посмотрел — и пробурчал, мол, нарисованная сандалия совсем другой формы, чем стопа. Апеллес, который очень любил шнырять меж зрителями, прилежно, как пчелка, собирая в соты своего тщеславия нектар похвал и совершенно равнодушно приемля хулу, был, против обыкновения, задет за живое. Ведь он очень высоко ценил правдоподобие своих работ! Внимательно выслушал башмачника и, послав ученика за принадлежностями своего ремесла, смыл прежнее изображение, заново оштукатурил этот кусок стены и, пока штукатурка еще не высохла, заново нарисовал жидкими красками сандалии.
Искусство тихографии в этом и состоит: рисовать разведенными в воде красками по только что оштукатуренной, еще сырой стене. Тогда краски словно бы впаяны в высохшую стену! Но делать это нужно очень быстро: одна неверная линия — и все приходится начинать сначала: сбивать слой штукатурки, накладывать новый… Впрочем, Апеллес славился точностью рисунка, недаром его девизом были слова: «Ни дня без линии!»
Там же, в храме, Апеллес тогда и переночевал. Наутро Доркион принесла своему господину привычный завтрак: его любимый беотийский хлеб с орехами и холодного козьего молока. Художник, против обыкновения, ел рассеянно и с наложницей побаловаться не захотел — все поглядывал на ступени храма, по которым начали подниматься первые посетители.
Нетрудно было угадать, что Апеллес хочет похвалиться своей работой перед тем башмачником. И вот он появился и воззрился на картину с важным видом знатока.
— Ну что ж, сандалии хороши, — изрек наконец. — А вот правая щиколотка гораздо тоньше левой!
— Ты башмачник, вот и не суди выше башмаков! — взревел Апеллес и набросился на него с кулаками.
Доркион слабо улыбнулась… Она любила слабости великого человека так же сильно, как его славу. Вернее будет сказать, ни до славы, ни до слабостей Апеллеса ей просто не было никакого дела — она любила его самого, знаменитого художника и ласкового любовника, самоуверенного друга сильных мира сего — и ремесленника, жестоко уничижающего себя, когда у него не получалась какая-то картина.
Порой перед Доркион представал неуверенный ребенок, порой — властный покоритель Ойкумены. Ей приходилось видеть Апеллеса в тяжкие минуты крайнего неверия в себя — и в ослепительные мгновения восторга. Художник осыпал свидетельницу своего унижения и триумфа то грубыми пинками, то нежнейшими поцелуями. И сердце ее то плакало, то смеялось от любви к человеку, которого ей послала — девушка в этом не сомневалась! — сама Афродита в ответ на отчаянные мольбы Доркион там, на галере…
Пентеконтера
Она очнулась на рассвете, сжигаемая такой болью, что кричала бы криком, если бы могла издать хоть звук.
Галера стояла на якоре, парус был спущен. Команда спала вповалку, дремал даже вахтенный.
Горло Доркион пересохло от жажды и горело от криков. Она слабо повела глазами и вдруг увидела под самым бортом ту самую деревянную долбленую фляжку отца, из которой он ее поил. Она была так истерзана, что это воспоминание об отце не вызвало никакой душевной боли, кроме смутного осознания, что вот — фляжка, в ней должна быть вода, а значит, можно попить.
Кое-как перевернувшись на бок, а потом на живот, Доркион поползла, извиваясь всем телом и волоча за собой ноги, словно животное, которому перебили задние лапы. Наконец она доползла до фляжки и выпила все, что там было, до капли.
Вода немного оживила ее, но все еще хотелось пить.
Доркион огляделась, и вдруг ей показалось, что опрокинутая корзина загораживает что-то круглое, очень похожее на фляжку в оплетке из прутьев. Доркион подползла туда — и увидела свою корзинку. Ту самую, которую забрала из дома Филомелы! Ту самую, где когда-то хранились витая розовая раковина, таящая в себе морской шум, золотистая жемчужина, корень, напоминающий единорога, и глиняная птичка-свистулька.
Теперь корзинка была почти пуста. Жемчужина исчезла — то ли закатилась куда-нибудь, то ли ее кто-то стащил под шумок, пусть она и была кособокая да приплюснутая. От раковины, на которую кто-то наступил, осталось только перламутровое крошево. Корень-единорог переломился пополам. Да и сама корзинка была вся перекошена, побывав под чьей-то тяжелой стопой. И только глиняная птичка с камышинкой, вставленной в голову, каким-то чудом осталась цела.
Слезы так и хлынули из глаз Доркион! Она прижала к губам птичку и покрывала поцелуями ее головку с такой нежностью, словно это была ее собственная жизнь, чудом уцелевшая среди того вихря, который на нее налетел.
Потом она коснулась трясущимися губами камышинки, дунула в нее — и та издала тихий свист. Доркион дула снова и снова, иногда прерываясь, чтобы смахнуть слезы, — и на душе становилось чуть легче, а рваные звуки, которые ей удавалось исторгать из свистульки, постепенно складывались в некое подобие любимой старинной песенки.
И вдруг чей-то голос подхватил ее — необычайно мелодичный и прекрасный голос, причем Доркион показалось, что она уже слышала его раньше:
Где розы мои,
Фиалки мои,
Где мой светлоокий месяц?
Голос, чудилось, лился с небес. Доркион вскинула голову — и вдруг в рассветном мареве ей почудился нежный женский силуэт. Казалось, это была женщина в белом, с лицом, закрытым легким покрывалом, — та самая, которая встретилась Доркион у источника Афродиты и посулила, что она будет служить в храме этой богини…
Силуэт мелькнул и исчез, но этого было достаточно, чтобы пробудить мысли Доркион.
Орестес говорил, что в храме Афродиты она должна будет отдаваться всем, кто только пожелает. Ее пожелал Терон… Ну что же, значит, ее служба уже началась — правда, в мучениях и безумной боли. Однако жрец из Марсалии, оказавшийся однажды на Икарии, много рассказывал о принесении жертв на алтарь божества — с этого, мол, и начинается всякое служение. А Доркион не принесла жертв Афродите. Может быть, поэтому ей было так страшно и больно?
Но что Доркион может пожертвовать прекрасной богине любви и совокупления? У нее ничего нет, кроме той окровавленной тряпки, в которую превратился ее ветхий хитон… Зато есть птичка!
На миг Доркион пришла в отчаяние — она расставалась с последней памятью о своем таком спокойном и, как сейчас казалось, даже счастливом прошлом, о Филомеле, об Икарии! — но тотчас скрепилась сердцем и, свесившись с борта, опустила руку с птичкой, лежавшей в покореженной корзинке, к самой воде, бормоча:
— О синевласый держатель земли, о Посейдон, молю тебя, передай мой дар Афродите в знак моей покорности и смиренного желания служить ей по воле ее!
Разжимая руку, Доркион подумала, что совершает глупость: сейчас тяжелая птичка камнем канет на дно и достанется не Афродите, а забавницам нереидам! — однако, к ее несказанному изумлению, гребень одной из волн вдруг взметнулся выше остальных, принял корзинку на свою пенную вершину, а потом волны мягко понесли корзинку-лодочку с мореходом-птичкой куда-то далеко-далеко, где она вскоре превратилась в черную точку, а потом и вовсе растаяла.
И в ушах Доркион снова зазвучал нежный голос:
Вот розы твои,
Фиалки твои,
Вот твой светлоокий месяц!
Доркион была твердо убеждена, что Посейдон исполнил ее просьбу — донес жертву Афродите, и богиня приняла ее.
Тем временем корабль восставал от сна: уже поставили парус, раздалось мерное шлепанье весел по волнам, зазвучала флейта, задавая ритм гребцам… Мореходы, занятые своими делами, сновали мимо Доркион, словно не замечали ее. Она с ужасом ждала появления Терона, однако того не было видно.
Из трюма выбрался Фаний и принес Доркион лепешку, потом набрал во фляжку Леодора воды из общей бочки и подал девушке.
— Наверное, духи Леодора и Кутайбы решили повременить и не отправляться в свой последний путь, пока не отомстят за тебя, — пробормотал он ласково. — Терон мечется в жару, и, знаешь, хоть я и добрый человек, но что-то неохота приходить ему на помощь. По мне, пусть валяется без памяти хоть до самого Пирея.
Фаний как в воду глядел: Терон на палубе не появлялся, и по обрывкам разговоров Доркион поняла, что он чуть ли не умирает.
Она старалась не думать о нем и вообще не вспоминала бы о том ужасе, который изуродованный мореход сотворил с ней, однако ее израненное тело мучительно болело. Кроме того, кровь, покрывавшая ее ноги, запеклась коркой, от которой болела кожа.
Окровавленную палубу мореходы отмыли, вылив на нее бессчетное число ведер морской воды, но Доркион не могла помыться соленой водой, ведь ее тело было покрыто многочисленными царапинами от ногтей и зубов Терона, который обладал ею воистину как дикий зверь.
И вот корабль оказался в виду порта, вот причалил…
С берега перекинули плоские деревянные сходни. Фаний распоряжался на палубе, и вереница портовых рабов, принадлежавших его приятелю, местному купцу, принялась сносить груз на землю. Фаний сновал по сходням туда-сюда с ловкостью и сноровкой, которые даются только давней привычкой.
Этот приятель Фания был, видимо, влиятельный человек в порту: по одному его мановению появлялись новые и новые грузчики и повозки. Наконец товары Фания были отправлены на хранение, а он сам собрался уезжать.
Его приятель приказал подать повозку, но Фаний о чем-то горячо переговаривался с ним, и Доркион, которая сжалась в комок в своем углу у борта, украдкой высовывалась оттуда: ей казалось, что речь идет о ней.
Наконец Фаний кивнул и горячо обнял своего приятеля, а потом опять поднялся на палубу и поспешно подошел к Доркион:
— Мне пора отправляться, — сказал он, слегка запыхавшись. — Но жаль оставлять тебя здесь, бедняжка. Очнется Терон, эти удальцы потратят мои деньги, вновь изголодаются — и забудут кровь, пролитую Кутайбой для твоего спасения! Они увезут тебя с собой в новое плаванье и будут мучить, пока ты не умрешь в морских просторах. Тогда тебя сунут под покров волн, как вчера сунули твоего отца и этого самоотверженного сарацина… Послушайся моего совета: уходи на берег. Я сговорился со своим приятелем Элием: он даст тебе приют, но навсегда оставить у себя не сможет. Он найдет тебе хорошего хозяина, который будет о тебе заботиться. Рабство не покажется тебе слишком тяжким бременем.
— Рабство?! — в ужасе простонала Доркион. — Ты продал меня в рабство?! Но я не принадлежу тебе!
— Принадлежишь, принадлежишь! — миролюбиво покивал Фаний. — Ведь я выкупил твою жизнь у своры этих похотливых псов. Я спас тебя от смерти! Но я не могу взять тебя с собой в Афины: моя жена слишком ревнива и не потерпит молоденькую красавицу рядом со мной. Кроме того, я опасаюсь, что ты будешь отвлекать внимание Орестеса от того дела, которое он должен исполнить. Нет, ты мне не нужна! Все, что я могу сделать, — это избавить тебя от Терона.
Доркион стиснула руки, с мольбой глядя то на небеса, то на синюю гладь волн, бьющих о берег.
Никто не давал ответа, никто не подсказывал, как поступить…
Оставалось только уповать, что богиня позаботится о той, которую напутствовала и ободряла с самого детства.
— Могу я проститься с Орестесом? — робко спросила Доркион, с трудом поднимаясь.
— Нет, ты должна уйти прежде, чем я выведу его из трюма, — решительно ответил Фаний. — Мальчик только-только начал привыкать к своей новой судьбе. Встреча с тобой сделает его несчастным и обесценит все мои хлопоты и старания. И знай…

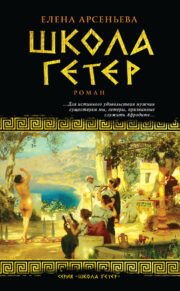
"Школа гетер" отзывы
Отзывы читателей о книге "Школа гетер". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Школа гетер" друзьям в соцсетях.