Мари-Бернадетт Дюпюи
Сиротка
Дыхание ветра
Моему обожаемому внуку Луи-Гаспару Дюпюи, ребенку света и любви.
В этой истории, Луи-Гаспар, мне хотелось воскресить заброшенный поселок, далеко, очень далеко от нашей Франции, в дивной стране снегов, где поет водопад Уиатшуан, который так дорог моей героине, Мари-Эрмин.
От автора
На этих страницах, которые рождаются под моим пером, я храню верность своим героям и не хочу покидать их на половине пути.
Мне случалось гостить в Квебеке, и я неизменно заезжала в Валь-Жальбер. Это место, напоенное поэзией и историей, завладело моим сердцем. Я ощущаю там биение прошлого, все еще богатого преданиями и воспоминаниями. Выбранное мною время — зима 1939-го и лето 1940-го — было суровой порой. Весь мир постепенно втягивался в войну, еще полностью не осознавая многочисленных последствий этого бедствия.
Эта третья книга, наверное, самая интимная из всех, пахнущая свежевыпавшим снегом, рисует беспокойную каждодневную человеческую жизнь.
Угрозы нарастают, любовь становится явью, а Эрмин, Соловей из Валь-Жальбера, силой обстоятельств превращается в решительную женщину, готовую бороться за тех, кого она любит.
От всей души я рассчитываю на поддержку тех, кто постоянно просит меня написать продолжение этой книги. Теперь я с радостью могу надеяться, что эта прекрасная история еще не закончена.
Спасибо вам, дорогие читатели.
М.-Б. Д.
Глава 1
Слезы Соловья
С самого рассвета крупными хлопьями падал снег. В старой хижине Талы, превращенной с годами в благоустроенный дом, от досок которого все еще исходил легкий смолистый аромат, царила глубокая тишина. Стоя у окна, Эрмин не узнавала знакомый сердцу зимний пейзаж: только белая, однообразно белая пелена.
Она стукнулась лбом о стену и застонала, словно раненый зверь. Она боролась с непреодолимым желанием изо всех сил удариться головой об оконное стекло, разбить его, ощутить боль, чтобы начало страдать тело и перестала страдать душа.
— Нет, нет! Только не это! — простонала она. — Дитя мое, радость моя, мой малыш…
Страшная картина, которая неотвязно терзала ее, вновь завладела ее сознанием. Снова и снова ей чудилась колыбелька, в которой покоился ее сыночек трех недель от роду, совсем еще крошечный, но неподвижный, спящий вечным сном.
— Мой маленький Виктор никому не причинил зла! — растерянно шептала она. — Ну за что Господь наказал моего ангелочка? Он же ничего дурного не сделал! Ну почему Он отнял его у меня? Это невозможно…
Ребенок умер 15 ноября, а Эрмин все никак не могла оправиться от потери, поскольку во всем винила только себя. Бледная, похудевшая, с разметавшейся по плечам копной светлых волос, она монотонно раскачивалась взад-вперед и снова билась лбом о деревянную перегородку.
«Все оттого, что мы были слишком счастливы, — думала она, терзаемая угрызениями совести. — Все из-за меня. Я впала в грех тщеславия, в погоне за славой пренебрегла материнским долгом. Никогда себе этого не прощу! Настоящая женщина бережет себя, когда носит ребенка, а я без конца разъезжала, соглашалась на любые контракты. Предупреждал же меня Тошан!»
При мысли о муже она горестно вскрикнула. Он все еще не вернулся, и его отсутствие становилось непереносимым.
Эрмин била нервная дрожь, и она погрузилась в воспоминания, которые бережно хранила в душе.
«Конечно, когда-то раньше были и мы счастливы на этой земле! — думала она. — Скоро минет пять лет с того дня, как я вернулась в Квебек и провела здесь с Тошаном несколько дней. Было это в январе тридцать пятого. Бог ты мой, как тогда все здорово получилось! Мне удалось выбраться к любимому, чтобы вместе отпраздновать Рождество[1]. Дети были у мамы в Валь-Жальбере. Мы остались вдвоем, вдалеке от всех и вся, совсем одни, и от этого были счастливы. Какое это было райское блаженство, когда мы спали, укрывшись шкурами, как индейцы. До чего прекрасные ночи мы проводили! А потом я выступала в “Фаусте” в Капитолии[2], я никогда еще так хорошо не пела, а все потому, что была безмерно счастлива».
Смех детей и наставления Мадлен, их кормилицы, внезапно вывели ее из задумчивости. Молодой индианке монтанье приходилось прилагать немало сил, чтобы воспитывать близнецов, Мари и Лоранс, которым скоро должно было исполниться шесть лет. По темпераменту девочки были очень разные. Спокойная, уравновешенная Лоранс могла часами рисовать карандашом и красками. Она была послушной и робкой. А вот неугомонной Мари все время нужно было двигаться. Потому, несмотря на тесные узы, связывающие ее с сестрой, раскрашиванию картинок она предпочитала игру в снежки. И хотя волосы у нее были светлые, в ее жилах текла неукротимая кровь индейцев.
Что касается Мукки[3], это был славный семилетний мальчик, шаловливый и непослушный.
«Мадлен тоже пережила большое горе, — сказала себе Эрмин. — Но она такая набожная, что сумела смириться. Похоже, вера защищает ее и помогает любить моих детей не меньше, чем она любила собственную дочь».
Мадлен, которую на языке индейцев звали Соканон[4], так и не постриглась в монахини, не ушла к сестрам в монастырь Нотр-Дам-дю-Бон-Консей в Шикутими. Готовясь стать послушницей, она вверила монахиням свою полуторагодовалую дочь. Однако встреча с Эрмин полностью изменила ее планы. Целых два года она была кормилицей и няней Лоранс и Мари, а потом так и не смогла расстаться с ними. Более того, ей казалось, будто наконец-то она обрела тихое семейное счастье, деля его поровну между особняком Лоры Шарден в Валь-Жальбере и домиком на берегу реки Перибонки. Она уже подумывала о том, чтобы забрать к себе дочку, но малютка умерла от менингита.
— На то воля Божья! — говорила молодая кормилица сквозь слезы. — Мое дитя станет ангелом небесным, а я буду за нее молиться денно и нощно.
После смерти дочери Мадлен перенесла всю свою материнскую любовь на близнецов, и они любили ее так же пылко. Иногда это вызывало у Эрмин досаду, но из-за многочисленных ангажементов, которые навязывал ей импресарио Октав Дюплесси, выбора не оставалось.
«Я убила своего ребенка, я убила Виктора, — причитала она, бросая тоскливый взгляд на снежную завесу за окном, которая становилась все плотнее. — Врач в Монреале предупреждал меня, а я не послушалась. Он советовал мне отдохнуть, отказаться от выступлений».
Эрмин закрыла лицо руками. Теперь она проклинала и свою известность, и свой успех. А между тем Канада гордилась таким сокровищем, которому уже завидовала вся Европа. «Снежный Соловей» — стояло на сотнях афиш, и одно это обеспечивало аншлаг. В газетах и журналах на все лады превозносили чистоту и красоту ее голоса, ее прелестные золотистые волосы, ее огромные голубые глаза, ее белоснежную, словно излучающую сияние кожу, матовый цвет лица. Лора, испытывавшая законную материнскую гордость, собирала статьи, вырезки из газет и журналов, в которых признавалась красота молодой певицы и восхвалялся ее талант.
«Но раньше-то все это не мешало мне жить так, как хочется, — продолжала размышлять Эрмин. — Тошан все же позволил мне уехать, а ведь он изо всех сил старался убедить меня отказаться от карьеры. В конце концов он понял, что значит для меня искусство, смирился с тем, что я не могу не петь. А ведь раньше он грозился бросить меня, если я снова выйду на сцену! И иначе как чудом это не назовешь. Он хотел, чтобы я была счастлива, даже делал вид, что ему нравится меня ждать. А еще он говорил, что певчей птичке не пристало томиться в клетке, пусть даже в золотой!»
И действительно, последние четыре года Тошан, ее муж, ирландец по отцу и индеец по матери, всячески поддерживал свою молодую и очаровательную жену, чтобы она могла сделать блистательную оперную карьеру. Но поставил одно условие: зиму они будут проводить вместе с их тремя детьми здесь, в этом домике, который он с каким-то упоением расширял и обустраивал собственными руками. И Эрмин держала свое обещание. Она возвращалась в лоно семьи в середине октября в сопровождении своего жизнерадостного эскорта, состоявшего исключительно из женщин — Мадлен, близнецов, да еще Шарлотты, своей неизменной гримерши и костюмерши. Этой девушке, двадцати лет от роду, нравилась такая бурная жизнь с переездами из одного роскошного отеля в другой, со сменой театров. Гораздо меньше ей хотелось проводить долгие холодные месяцы в затерянном в лесах домике.
От поселения на реке Перибонке, принадлежавшего Тошану, сюда надо было добираться несколько часов лесом по проселочной дороге. Он рассчитывал превратить дом в уютное имение для своей семьи. Эта земля досталась ему в наследство от Анри Дельбо, золотоискателя богатырского сложения, которого поглотила и унесла река. Тошан мечтал о том времени, когда его сын Мукки будет весенней порой играть здесь на поляне. Он научил его мастерить лук и стрелы, брал с собой в лес, чтобы показать, как читать следы животных. Когда Тошан ходил охотиться с ружьем, мальчуган шел вместе с ним, гордый тем, что сопровождает отца.
— Как же мы были счастливы тогда! — вздохнула все еще погруженная в свои мысли Эрмин.
Во время своих турне она вела «бортовой журнал» и в шутку сравнивала себя с капитаном судна.
— Все роли, о которых я мечтала, мною сыграны, — сказала она себе, отвлекаясь от грустных мыслей. — Мадам Баттерфляй в Метрополитен Опера в Нью-Йорке[5]. Боже правый, там такой огромный зал, а все равно мест на всех не хватило, зрители даже стояли в проходах. Я испугалась, думала, упаду в обморок.
А совсем недавно, в апреле 1939-го, по случаю Всемирной выставки она снова выступала в этом огромном американском городе. Перед восторженной толпой она запела:
О, Канада,
Наших предков страна,
Много славных цветов увенчало тебя…
Эта песня лучше всего раскрывала дух ее родины, эта мелодия была дорога сердцу каждого ее соотечественника[6].
— Мне ни за что не надо было подписывать этот контракт! — простонала она вслух. — И от Тошана я уехала раньше, чем намечалось, еще не зная, что беременна. А потом все время в разъездах. И вот, вот…
Эрмин с силой ударила ладонями по стеклу, но оно выдержало. Забывшись от боли, она вскрикнула громче прежнего. Прибежала Мадлен. Она была небольшого роста, довольно полная. Одета в серое платье с белым воротничком и безукоризненной чистоты передник, черные косы уложены венчиком на голове.
— Прошу тебя, Канти[7], не плачь! Ты напугаешь малышей!
— Не называй меня так! — возразила Эрмин. — Слышишь? Никогда больше! Я уже никогда не буду петь. Я погубила своего ребенка! Тала и Одина[8] столько раз говорили мне о том, что ребенок родился слишком слабеньким. Если бы я рожала в городе, а не здесь, как какая-то дикарка, может быть, мой маленький Виктор и остался бы жив. Мадлен, до чего же он был славный. Крохотный, но такой славный! Я его уже любила, ты понимаешь? Он до конца боролся за свою хрупкую жизнь. Он даже улыбался мне через силу. Вы мне все твердите, что его нельзя было спасти, но этого не дано знать и я никогда не узнаю. В довершение всего никто даже не пришел на его похороны, были только мы с Тошаном. Мои родители не соизволили приехать: Луи плохо себя чувствовал. Но ведь Мирей могла бы присмотреть за ним! Как по-твоему, Мадлен?
Кормилица обняла ее и тихонько покачала головой.
— Эрмин, мне больно на тебя смотреть! Умоляю, не вини себя, ты ни в чем не виновата. Бабушка Одина — а опыта ей не занимать — объяснила тебе, что все новорожденные хрупкие здоровьем. Никогда нельзя заранее быть уверенным в том, что ребенок выживет. Тебе повезло, что Мукки вырос крепким, да и близняшки здоровы. А Виктору не было суждено дальше оставаться с тобой. Теперь он на небесах, вместе с моей малышкой. Господь взял их в рай.
— Мадлен, это просто слова, слова и ничего больше. Я даже не знаю теперь, верю ли я в Бога. Он отнял у меня ребенка. Ты слышишь это? Он отнял у меня ребенка.
Бережно поддерживая Эрмин, Мадлен усадила ее на стоявшую около камина деревянную скамью с разложенными на ней подушками.
— Я сейчас приготовлю отвар, от него тебе станет легче. Бедная Эрмин, ты же совсем заледенела. Погрей руки!
— Меня уже ничто не согреет. С того дня, как Виктора похоронили на перибонкском кладбище, меня постоянно бьет озноб. Бедный мой мальчик! Сейчас уже земля на его могилке промерзла, снегом ее засыпало. Какая это боль, Мадлен! Мне всего двадцать четыре года, а я не смогла родить здорового ребенка.
Эрмин почувствовала, что кто-то гладит ее по плечу. Это был Мукки. Темноволосый, с золотистой кожей, мальчик серьезно смотрел на нее, и в его темных глазах она различила острую тревогу.

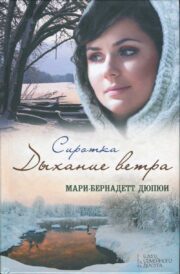
"Сиротка. Дыхание ветра" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сиротка. Дыхание ветра". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сиротка. Дыхание ветра" друзьям в соцсетях.