И тут ей пришло в голову, что свой первый танец на балу она танцует с холостяком примерно ее лет. Насколько это предпочтительнее старого мистера Лонгхорна, как бы добр он ни был.
— О, думаю, что нет.
Зал весело кружился вокруг Каролины. Будет жаль покинуть город сейчас, когда она только что чего-то добилась. Разумнее задержаться здесь еще на какое-то время и придать себе блеск.
— Мне здесь нравится, да и куда еще можно поехать?
Грейсон ответил ей понимающим взглядом:
— Проведя около четырех лет за границей, я с вами вполне согласен. И я рад, что вы остаетесь. Раз вы подруга Пенелопы, я представлю вам некоторых джентльменов…
И позже Грейсон так и сделал. К концу вечера у Каролины болели от танцев ноги, а щеки раскраснелись от комплиментов. Она невольно подумала, что, если бы здесь оказался Уилл Келлер, она и не заметила бы его в толпе, а он бы грыз себе локти от того, что был таким дураком и дал ей отставку в ту ночь в каретном сарае. Ведь ее партнерами были Николас Ливингстон, и Абель Гор, и Лиланд Бучард, наследник банкирского дома Бучардов, его рука так низко спустилась по ее спине, и он несколько раз осведомлялся, когда увидит ее следующий раз.
Позже, возвращаясь в экипаже в отель, Каролина вполне искренне заметила, что это было действительно очень веселое Рождество. Улицу покрывал белый снег; мимо проплывали особняки из камня с архитектурными украшениями. Их парадные входы были ярко освещены, в окнах видны были украшенные елки. В эту минуту Лине казалось, что если ей и дальше будет так же везти, Уилл непременно увидит ее имя в газете и отправится на ее поиски — и тогда ей не придется самой его искать. Она прикрыла рот рукой, чтобы скрыть улыбку. До чего же хорош Нью-Йорк!
35
«Поезда, которые прибывают теперь с Запада ежедневно, привозят не только тех, кому жизнь на фронтите пошла на пользу, но и сломленных людей, потерявших состояние в быстрорастущих городах. Они везут с собой то, что урвали, и нью-йоркские ювелиры отшлифуют и вставят в оправу эти драгоценности, которые будут выгодно проданы новеньким миллионерам, которые хотят подарить своей жене самое лучшее. Несомненно, завтра в нашем чудесном городе будет сделано много рождественских подарков с туманным прошлым.»
Манхэттен, который Элизабет сейчас увидела, не имел ничего общего с тем городом, который она покинула почти три месяца назад. Ни шума, ни суеты; на улице почти ни одного прохожего. Все вокруг нее словно вымерло, так что ей даже подумалось, уж не умерла ли она и не попала ли на тот свет, явившийся ей в виде Нью-Йорка, из которого исчезло все население. Улицы были покрыты только что выпавшим снегом, еще не тронутым колесами экипажей. Кое-где в окошке мерцал теплый огонь. Наверное, именно так выглядел город полстолетия назад: мрачный, безмолвный и замерший.
Уилл обнимал ее на ходу за плечи — то ли чтобы согреть, то ли чтобы не дать поскользнуться.
— Ты замерзла, — заметил он.
Она кивнула, но не ответила, слишком взволнованная предстоящей встречей с близкими. Что она скажет матери и тетке, как объяснит им? Ее поддерживало и успокаивало только присутствие Уилла. Они выручили вполне приличную сумму за кольцо, и Уилл хотел нанять на станции экипаж. Но Элизабет настояла на том, что безопаснее всего идти домой пешком, кружным путем, под покровом темноты. Случайная встреча в поезде с Грейсоном Хэйзом сделала ее очень осторожной.
— Мы почти пришли, — добавил Уилл, хотя прекрасно знал, что она с завязанными глазами найдет Грэмерси и свой дом.
— Дело не в холоде, — сказала Элизабет.
— Я знаю, — голос его звучал так ласково, словно он ее обнял. — Но в любом случае дома будет лучше.
Добравшись до дома № 17, Грэмерси, они долго стояли перед ним. Коричневый фасад выглядел как обычно, но света в доме не было. Элизабет ожидала увидеть признаки жизни и сейчас пришла в ужас. И только уступив уговорам Уилла, она подошла к двери и, достав ключ из укромного места, отперла ее. В прихожей было темно, но, когда ее глаза привыкли к темноте, Элизабет увидела, что столик, на котором посетители оставляли свои визитные карточки, исчез. За широким дверным проемом была видна темная гостиная; судя по запаху, там недавно топили камин.
Вцепившись в руку Уилла, Элизабет начала подниматься по лестнице. Она заметила, что картины в рамах были не те, которые она помнила. Ее шаги по лестнице звучали непривычно, и она поняла, что персидский ковер, устилавший лестницу от второго этажа и до входной двери, исчез. Вскоре Элизабет обнаружила, что в ее собственной комнате недостает многих безделушек, так оживлявших ее. Правда, голубые обои были те же, и большая кровать красного дерева застелена тем же покрывалом, что и всегда. Она была потрясена не столько тем, что снова в комнате, в которой провела столько дней, а тем, что с ней Уилл. Она последовала за ним в неизвестность, а он еще никогда не видел ее спальню.
— Уилл, — сказала она, обернувшись к нему, — я рада, что ты поехал со мной.
Он посмотрел на нее своими чудесными большими глазами. Волосы в беспорядке падали ему на лоб.
— Я знаю. Я тоже рад.
Она приблизилась к Уиллу, и он обнял ее.
— Надеюсь, я ничего не испортила.
— Ты никогда ничего не портишь.
Улыбнувшись, он наклонился к Элизабет и коснулся ее губ легким поцелуем. Ей снова стало тепло — впервые с тех пор, как они сошли с поезда. Она прижалась лбом к его груди.
— Ты думаешь, что она… — У Элизабет перехватило дыхание — она не могла произнести «жива», и, уж конечно, язык не повернулся бы сказать «мертва». — С ней все в порядке?
— Да. — Рука Уилла провела по ее волосам. — Да, но тебе нужно к ней пойти.
— Сейчас пойду.
Но она долго не могла оторвать лоб от груди Уилла. Потом улыбнулась ему слабой улыбкой.
Элизабет нашла в шкафу свечи и зажгла их. Когда она выходила из комнаты, Уилл уже лежал на кровати. Он плохо спал в поезде прошлую ночь, когда они подъезжали к Нью-Йорку. Когда она дойдет до конца холла, он, наверное, уснет. Дверь спальни матери, в восточной части дома, казалась ей такой же устрашающей, как когда она здесь жила. Возможно, именно по этой причине она первым делом отправилась сюда, а не к Диане или тете Эдит.
Она толкнула дверь с таким же трепетом, как в детстве, и вошла в комнату. В комнате не было света, но задолго до того, как глаза привыкли к темноте, она услышала дыхание матери. Ее мать дышала. От этого знакомого звука Элизабет снова почувствовала себя маленькой девочкой.
— Мама, — прошептала она, дотрагиваясь до руки, лежавшей на одеяле.
Рука была холодная, но хорошо знакомая. Эти длинные пальцы, так искусно писавшие все эти благодарственные письма и письма, выражавшие соболезнования. В окна проникал свет, и Элизабет начала различать предметы. Когда она повторила слово «мама», темные глаза медленно открылись. Они безучастно смотрели на Элизабет, не узнавая.
— С тобой все в порядке? Ты меня узнаешь?
Мать медленно приподнялась на локтях, не отрывая взгляда от молодой женщины. Элизабет не знала, сдерживает ли она ярость и изумление и видит ли ее вообще. Наконец мать сказала осипшим голосом:
— Сейчас Рождество?
— Нет, — прошептала Элизабет. — Еще нет. Оно завтра.
— Сегодня канун Рождества?
Глаза матери широко раскрылись. Теперь по щекам Элизабет струились слезы, и, боясь громко разрыдаться, она лишь кивнула. Она плакала обо всем, чего ей хотелось, обо всем, от чего отказалась, и обо всех тех людях, которых собиралась вновь покинуть. Она плакала о прекрасной мечте Уилла, в которую он включил и ее, а она все испортила из-за своих прежних обязательств.
— Сегодня канун Рождества, и ты ангел, спустившийся ко мне в виде Элизабет?
Элизабет снова взяла мать за руку.
— Нет, — ответила она, когда снова была в силах говорить. — Я Элизабет. Сейчас канун Рождества, и я Элизабет, и я не умерла — это все вышло по ошибке. Я вернулась из…
— Моя Элизабет — ангел. — Миссис Холланд прикрыла глаза и упала обратно на подушку. Ее темные волосы разметались вокруг белого лица. — Она ангел, и она вернулась ко мне.
Элизабет долго стояла у кровати, размышляя о том, что сделала со своей матерью и как ей теперь все исправить. Когда она уехала, то отняла последнее, ради чего жила ее мать, теперь Элизабет ясно это понимала. В конце концов, она забралась на кровать и положила голову на подушку рядом с головой матери. Теперь она думала о том, как же ей сказать Уиллу, что они не смогут вернуться в Калифорнию, пока ей каким-то образом не удастся добиться, чтобы мать выздоровела.
36
«Нельзя не заметить внезапно возникшую дружбу между миссис Уильям Скунмейкер и юной Пенелопой Хэйз. Те из нас, кто обладает аналитическим складом ума, задумались: а что, если первая так благосклонна к последней из-за своего пасынка? Возможно, молодой Скунмейкер снова влюбился?»
К полуночи в канун Рождества Генри вконец надоели два мужлана, приставленные к нему, которые теперь сделались его постоянными спутниками. Если прежде эти тени выглядели абсурдно комичными, то теперь он уже не видел тут ничего смешного. Они проверяли далее, сколько шампанского он пьет, — правда, не так тщательно, как следили за его передвижениями. Он все же выпил несколько бокалов, и теперь галстук съехал набок, а темные волосы растрепались. Бешеное стремление сбежать утихло, превратившись в бесплодную надежду. Он знал, что Диана в зале, и ему отчаянно хотелось хотя бы мельком на нее взглянуть. В последний час он был одержим идеей, что она не будет танцевать ни с кем, кроме него. Ему так хотелось подбодрить ее хотя бы взглядом. Она рисковала ради него всем — а он даже не мог пригласить ее на танец. Как ей одиноко в толпе, среди этих гарпий, с их веерами и язвительными замечаниями!
Когда Генри наконец увидел Диану, она уже уходила. Тот мужчина, с которым она явилась на бал, — наверное, это тот деловой партнер ее отца, о котором она говорила, — предложил ей руку, и ей удалось бросить один лишь взгляд в сторону Генри, находившегося на другом конце зала. В ее глазах блестела вечерняя роса, нежные губы приоткрылись. Он шагнул вперед, но тут обзор ему заслонила другая женщина. К нему приближалась Пенелопа. За ней следовала мачеха Генри. В руках у Пенелопы были два бокала шампанского.
— Мистер Скунмейкер сказал, что вы можете десять минут передохнуть, — обратилась Изабелла к стражникам Генри.
Белокурый развившийся локон упал ей на щеку. Мачеха поправила галстук Генри. Когда двое рослых мужчин, воспользовавшись ее предложением, зашагали к дверям, она сжала запястье Пенелопы и подмигнула Генри. Затем Изабелла взяла под руку какую-то матрону, проходившую мимо, и, рассыпавшись в комплиментах по поводу ее туалета, вместе с ней удалилась в главный зал. Генри прислонился к косяку дубовой двери, отделявшей бальный зал от нескольких маленьких галерей. Он бросил взгляд на толпу гостей, желая, чтобы Диана была среди них. Но он знал, что она уже ушла.
— Я не могу сейчас играть с тобой ни в какие игры.
— Больше никаких игр, — весело ответила Пенелопа.
Она подняла бокал, показав ему знаком, чтобы он следовал за ней. И направилась в галерею. Сам не зная почему, Генри пошел за ней. Походка у нее была очень решительной, что не понравилось Генри.
— В любом случае тебе бы пора понять, Генри, что для меня это никогда не было игрой.
Они переходили из одной галереи в другую, мимо натюрмортов старых голландских мастеров, с черным виноградом, черепами и кувшинами с вином. Генри оглянулся, надеясь, что никто не заметил, как они удалились. Пенелопа отхлебнула из бокала, и Генри увидел над краешком бокала ее пылающие глаза.
— А для меня это была игра, — сказал он. — Какое-то время она была забавной, но затем веселье закончилось. Я давно уже не играю в такие игры, Пенни.
Пенелопа пожала плечами и до дна осушила бокал. Потом швырнула его через плечо, и, когда он разбился о дубовую панель, что-то дрогнуло в душе Генри, хотя он и не подал виду.
— А я думала, что тебе, возможно, захочется снова поиграть.
От ее тихого голоса Генри похолодел.
— Уверен, что нет, — заявил он твердо.
Пенелопа засмеялась гортанным смехом и остановилась.
— О, Генри, разве ты не знаешь, что, когда имеешь дело со мной, ты должен на минутку остановиться и подумать: что я упустил?
Генри вдруг почувствовал, что устал. Никогда он так не уставал. Ему захотелось оказаться где угодно, но только не здесь. Он с трудом выговорил:

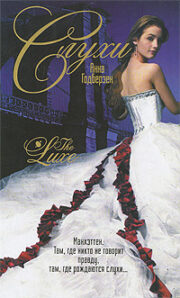
"Слухи" отзывы
Отзывы читателей о книге "Слухи". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Слухи" друзьям в соцсетях.