Уиллард повернулся к Майре.
— Это ты сказала, чтобы он пришел? Майра, ты знала, что он придет?
— Нет, нет. Клянусь тебе.
Уайти опять позвонил.
— Сегодня воскресенье, — объяснила Майра, когда никто не двинулся к двери.
— Ну и что? — спросил Уиллард.
— Может быть, он хочет что-нибудь сказать нам. Что-нибудь объяснить. Сегодня воскресенье. А он совсем один.
— Мама! — крикнула Люси. — Он ударил тебя. Пряжкой!
Теперь Уайти стал легонько постукивать по стеклу входной двери.
Волнуясь, Майра сказала дочери:
— Так вот что Элис Бассарт разносит по всему городу?
— А что, разве это не так?
— Нет, — сказала Майра, прикрывая подбитый глаз, — все вышло случайно. У него и в мыслях ничего такого не было. Не знаю, как так получилось, но это было и прошло, и кончен разговор.
— Мама, один раз, хоть один раз в жизни будь мужественной!
— Послушай, Уиллард, — вступила Берта. — Мне ясно одно: судя по всему, он пока что собирается разбить пятнадцатидолларовое стекло.
Уиллард сказал:
— Прежде всего я хочу, чтобы все успокоились. Человек не был дома целых три дня, чего с ним раньше никогда не случалось…
— О, держу пари, папа Уилл, он отыскал себе какое-нибудь теплое местечко с пивной стойкой в придачу.
— Это неправда, я знаю, — возразила Майра.
— Тогда где же он был, мама? В «Армии спасения»?
— Ну-ка, Люси, ну-ка, подожди минутку, — сказал Уиллард. — Кричать тут нечего. Насколько мы знаем, он все это время ходил на работу. А ночью спал у Билла Брайанта. На диване…
— Ну что вы за люди! — крикнула Люси и выскочила в прихожую.
Стук в стекло прекратился. Какой-то момент стояла тишина, потом звякнула задвижка, и раздался крик Люси: «Уходи! Ясно тебе? Уходи!»
— Нет, — простонала Майра. — Не надо.
Люси ворвалась в комнату.
— …Что, что ты наделала? — сказала Майра.
— Мама, это конченый человек! На нем надо поставить крест!
— Нет, нет! — крикнула Майра и кинулась мимо них в прихожую. — Дуайн!
Но он уже бежал по улице. Когда Майра открыла дверь и выскочила на крыльцо, он уже повернул за угол и скрылся из виду. Исчез.
И с той поры не показывался. Люси прогоняла его, а Уайти только смотрел на нее и молчал. Через стеклянную дверь он видел, как его восемнадцатилетняя беременная дочь закрывает задвижку перед его носом. И не смел возвратиться. А ведь с тех пор прошло целых пять лет, и Люси умерла… Должно быть, он ждет на станции уже минут двадцать. Если не потерял терпения и не решил уехать назад. Если не решил, что ему, может быть, лучше всего исчезнуть.
Только свернув с дороги, ведущей к Кларкс-Хиллу, под уличными фонарями Саус-Уолтер-стрит, Уиллард почувствовал, что сердце стало биться более или менее нормально. Да, вновь началась зима, но это вовсе не значит, что ему уже никогда не увидеть весны. Он еще поживет. Он и сейчас жив! Так же, как все, кто расхаживал по магазинам и ехал навстречу ему в машинах — гнетет их что-нибудь или нет, они живут! Живут! Мы все живем! Так что же он делал там, на кладбище? В такой час, по такой погоде! Прочь, долой эти болезненные, мрачные, лишние мысли. Ему есть о чем подумать, и не всегда о плохом, между прочим. Хотя бы о том, как развеселится Уайти, когда услышит, что дом, в котором помещался «Погребок Эрла», развалился посреди ночи. Развалился, словно сам накликал на себя такую кару, и его тут же снесли. И что с того, что в «Таверне Стенли» теперь новые хозяева? Уайти презирал грязные притоны, как и всякий другой человек, когда владел собой, а это бывало гораздо чаще, чем может показаться на первый взгляд. И вряд ли так уж хорошо — выкапывать из прошлого только самые неприглядные случаи. Этак любого человека можно возненавидеть, если выискивать в нем лишь дурное… И потом Уайти еще не видел нового торгового центра, пусть-ка прогуляется по Бродвею — они пойдут вместе, конечно, и Уиллард покажет ему, как перестроили «Клуб Лосей»…
«О, черт! Парню уже под пятьдесят, ну, что я еще могу для него сделать? — Въезжая в город, он уже говорил вслух. — В Уиннисоу его ждет работа. Такая, о какой он говорил, какую хотел, о какой просил. Ну, а то, что он снова будет жить у нас, — так это ведь временно. Поверь, я слишком стар, чтобы начинать все сначала. Значит, мы решили — до первого января… Ну, послушай, — обращался он к мертвой, — я ведь не бог! Я не могу предсказать будущее! К черту все это — он ее муж, она его любит, нравится это нам или не нравится». Вместо того чтобы поставить машину за магазином Ван-Харна, он подъехал к главному входу — отсюда дольше идти до зала ожидания, так что у него будут лишние полминуты для размышлений. Похлопывая о колено мокрой кепкой, он вошел в магазин. «А скорее всего, — подумал он, — скорее всего его тут и нет. — Не заходя в зал, он попытался заглянуть внутрь. — Скорее всего я просто зря проторчал там, на кладбище. В конце концов, видно, у него не хватило духу приехать».
И тут он увидел Уайти. Он сидел на скамье, уставясь на свои ботинки. Его волосы поседели. И усы тоже. Он то и дело перекладывал ногу на ногу, и Уиллард видел подметки его ботинок — гладкие, не успевшие потемнеть. Маленький чемоданчик, тоже новый, стоял рядом с ним на полу.
— Дуайн, — сказал Уиллард, делая шаг вперед, — ну, здравствуй, Дуайн!
Часть вторая
1
Когда летом 1948 года Рой Бассарт вернулся с военной службы, он не знал, чем ему заняться, и поэтому целых полгода сидел себе да слушал, что люди об этом скажут. Он заваливался в глубокое мягкое кресло в дядюшкиной гостиной, но тут же его длинная костлявая фигура сползала — и чтобы пройти по комнате, приходилось перешагивать через армейские башмаки, гольфы и брюки цвета хаки, что часто проделывали во время его визитов кузина Элинор и ее подружка Люси. Он сидел неподвижно, засунув большие пальцы в пустые брючные петли и уронив подбородок на хилую грудь, а когда спрашивали, слушает ли он — ведь это к нему обращаются, — лишь кивал, не отрывая глаз от пуговиц на рубашке. А не то поднимал веселое открытое лицо, освещенное голубыми глазами, и смотрел на собеседника сквозь рамку из пальцев.
В армии у него открылся талант к рисованию — особенно удавались ему портреты в профиль. Рой отлично изображал носы (чем крупнее, тем лучше), хорошо — уши, волосы, а иногда подбородки, и вдобавок купил самоучитель, чтобы научиться рисовать губы, которые у него не получались. Он даже начал подумывать: а не пойти ли еще дальше и не стать ли профессиональным художником? Дело, конечно, не простое, но, может, как раз и настала пора взяться за что-нибудь трудное, а не хватать, что поближе да полегче.
В конце августа, едва заявившись в Либерти-Сентр, он объявил родным о своем намерении. Но не успел он опустить мешок на пол гостиной, как посыпались возражения.
И чтобы поставить точку, он на целый день засел срисовывать женский профиль со спичечной коробки. Позволив себе оторваться лишь на завтрак, он вновь и вновь делал эскизы и только в конце длинного рабочего дня, проведенного взаперти, почувствовал, что время прошло не даром. После обеда он извел три конверта, прежде чем остался доволен своим почерком, и отправил рисунок в художественную школу в Канзас-Сити, штат Миссури, проделав путь через весь город до почтамта, чтобы письмо успело уйти с вечерней почтой. Но когда он получил ответ, в котором мистера Роя Баскета извещали, что он прошел по конкурсу и получит пятисотдолларовый курс заочного обучения всего лишь за сорок девять долларов пятьдесят центов, он был склонен согласиться с дядей Джулианом, что это просто-напросто какая-то лавочка, и прекратил переписку.
Так или иначе, а он им доказал, что хотел, и тут же, с первой попытки. Когда его на два года призвали в армию, отец сказал: он, мол, надеется, что военная дисциплина будет способствовать возмужанию его сына. Выходило, что отец с этим делом не справился. И Рой действительно возмужал, даже слишком. Но дисциплина здесь была ни при чем. Все дело, сказать по правде, было в том, что родители были далеко. Да, в школе он тянулся кое-как на тройки и тройки с минусом, хотя стоило ему лишь чуть-чуть приналечь («А ведь у тебя есть способности, Рой», — говорила мать), и он мог бы, если бы захотел, учиться на твердые четверки или даже на пятерки. Но теперь пора заявить: он больше не троечник, и нечего с ним обращаться как с троечником. Уж если ему работа понравится, он наверняка с ней справится, и не как-нибудь, а хорошо. Вопрос только в том, на чем остановиться. В двадцать лет он и сам понимает, что пора подумать о своем будущем. Он и сам достаточно размышляет над этим, будьте покойны.
Но, по чести сказать, не мешало бы месяц-другой еще покейфовать, а уж там и впрячься всерьез, если к тому времени он решит, на чем остановиться.
И еще много месяцев спустя после своего возвращения Рой только и делал, что, во-первых, всласть отсыпался, а во-вторых, до отвалу наедался. Около четверти десятого — едва уходил отец — он спускался к завтраку в армейских брюках и тенниске. Сок двух сортов, парочка яиц, ломтика четыре бекона, кусочка четыре поджаренного хлеба, горка варенья из вишен, горка повидла и кофе, который, чтобы шокировать мать, никогда прежде не видевшую, чтобы он пил что-нибудь, кроме молока, он называл «жгучей яванкой». Иногда за завтраком он опустошал целый кофейник «жгучей яванки», и было видно, что мать в самом деле не знает, то ли ужасаться тому, как он называет кофе, то ли волноваться насчет того, в каких количествах он его поглощает. Матери нравилось хлопотать вокруг него, закармливать его всевозможными лакомствами, и, поскольку это ему ничего не стоило, он дал ей полную волю.
— А знаешь, я ведь, случается, пью и кое-что еще, — говорил он, вставая из-за стола и хлопая ладонью по животу. Выходило не так громко, как у сержанта Хикки, который весил двести двадцать пять фунтов, но тоже неплохо.
— Не будь наглецом, Рой, — отзывалась она. — Не хочешь ли ты сказать, что пьешь виски?
— Да так, по маленькой, Элис.
— Рой…
И тут — если она принимала его слова всерьез — он подходил к ней, обнимал и говорил: «Ты славная девочка, Элис. Но не верь всему, что тебе говорят». А потом звучно чмокал мать в лоб, уверенный, что это моментально исправит ее настроение и озарит утро, проведенное в домашних хлопотах и беготне по магазинам. И он был прав — так оно обычно и выходило. В итоге они с матерью оставались в прекрасных отношениях.
Затем он просматривал газету — от первой До последней страницы. Потом возвращался на кухню опрокинуть между делом стаканчик молока. Он выпивал его в два глотка тут же, у холодильника, и закрывал глаза от жгучего холода в переносице. Потом вытаскивал из хлебницы полную пригоршню домашнего печенья, которое обожал с детства, потом: «Я пошел, мам!» — стараясь перекричать гул пылесоса…
Днем Рой частенько заходил в публичную библиотеку, где когда-то работала после школы его старая привязанность — Бэв Коллисон. Он раскладывал на коленях альбом и просматривал журналы, выбирая виды, которые стоит срисовать. К портретам он потерял всякий интерес и решил, что лучше специализироваться на пейзажах, чем лезть из кожи вон, стараясь, чтобы рот выходил похожим на что-то способное открываться и закрываться. Рой проглядел сотни номеров «Холидей», ничем особенно не вдохновившись, хотя и прочитал о куче стран и обычаев, которых совершенно не знал. Выходит, он не терял даром времени, хоть иногда и дремал — в библиотеке стояла такая духота, что приходилось требовать, чтобы открыли окно и впустили хоть немного свежего воздуха. Совсем как в армии. Целый день добиваешься разрешения на самую простейшую вещь. Эх, братцы, до чего же хорошо быть свободным! Вся жизнь впереди. И можно делать со своим будущим все, что только захочешь.
К концу такого осеннего дня обычно вновь заворачивал к школе — посмотреть тренировку футбольной команды — и оставался там затемно, двигаясь вдоль кромки поля — туда и обратно — следом за игроками.
Над бейсбольным полем разносились звуки оркестра, репетирующего перед субботней игрой. «Оркестр, внимание… Приготовились!» — доносилось до него; это м-р Валерио кричал в мегафон, и, честно говоря, ему не бывало никогда так хорошо, как в те моменты, когда он слышал родную мелодию и смотрел, как первая команда (три года не знавшая поражений!), сцепив руки, сбивается в кучу, а второй состав пытается разбить ее, и Бобби Рокстроу — эдакий паучок, — поднявшись на цыпочки, командует: «И раз, и два…», а потом, когда мяч взлетал вверх, поднимал голову и видел бледную матовую луну в темнеющем небе над школой.
К этому вечернему часу, к этой неповторимой поре жизни, к Америке, где все это возможно, он испытывал такое пронизывающее и высокое чувство, для которого есть только одно название — любовь.

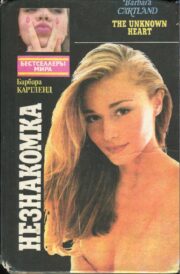
"Снег на вершинах любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Снег на вершинах любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Снег на вершинах любви" друзьям в соцсетях.